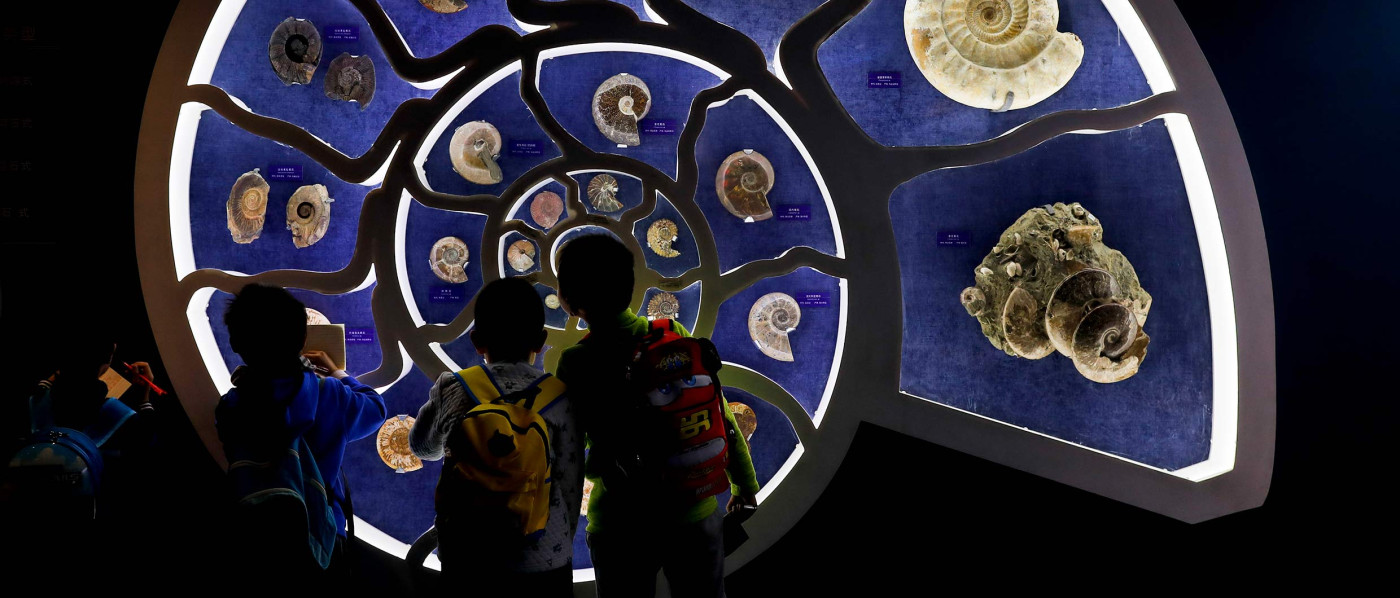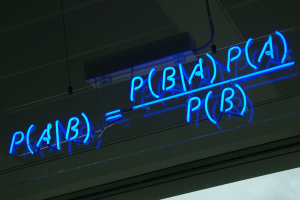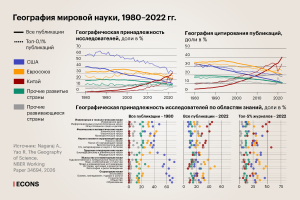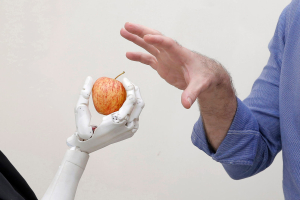Политика по учебникам, «зеленые ростки» демографии и споры о меритократии
Зачем центральным банкам учебники по истории? Не только для того, чтобы учиться на ошибках прошлого, – блог Банка Англии публикует гостевой пост Кэтрин Шенк, профессора социальной и экономической истории Оксфордского университета. Конечно, «кто пренебрегает прошлым – обязательно его повторит», напоминает она афоризм: исследования показывают, что короткая память – причина эйфорий на финансовых рынках, а кризисы повторяются отчасти потому, что память о них исчезает. Но выбрать подходящие исторические примеры, чтобы извлечь из них правильные уроки, – упражнение намного более сложное, пишет Шенк.
Например, в кризис 2008 г. примером для реакции центральных банков служила Великая депрессия, однако ее уроки стали менее актуальны: так, отмена стимулов в 1930-е привела к повторной рецессии, а после 2010 г. – нет. В 2010 г. Кеннет Рогофф и Кармен Рейнхарт выявили на исторических данных пороговое соотношение долга к ВВП в 90%, превышение которого чревато ростом финансовой нестабильности, но в пандемию 2020 г. этот порог был решительно нарушен, и дебаты вокруг него продолжаются. Все это показывает, что история может давать противоречивые советы. Знание того, как политика разрабатывалась в прошлом, может улучшить понимание меняющегося контекста ее реализации: извлечение уроков из экономической истории должно быть тщательно согласовано с текущими институциональными условиями, заключает Шенк.
Если с ростом доходов в странах рождаемость снижается, то может ли население когда-нибудь исчезнуть? В Южной Корее, где на женщину приходится в среднем около одного ребенка, население будет сокращаться вдвое в каждом поколении, и через 10 поколений страна с населением 50 млн человек превратится в страну с населением 50000 человек, как в небольшом городе, сравнивает Джеймс Бейли из Колледжа Провиденс (США), специализирующийся на экономике здравоохранения, в блоге Economist Writing Every Day. Сценарий исчезновения населения выглядит безумием, но непонятно, а что может остановить такую тенденцию, рассуждает он. Чтобы численность населения оставалась стабильной, среднестатистическая женщина должна иметь хотя бы двоих детей. В типичной развитой стране этот показатель равен 1,5. Глобальный рост населения уже сократился до 1% в год и к 2100 г. упадет до нуля по мере перехода бедных стран – как это уже произошло с богатыми – к высоким доходам, высокому образованию и низкой детской смертности. Высокий доход является невероятно сильным предиктором низкой рождаемости, и поэтому, если экономический рост продолжится, продолжит падать и рождаемость.
Однако исследования показывают, что «спрос» на детей остается намного выше, чем их «предложение»: в типичной богатой стране женщины хотели бы иметь по два ребенка и более. Глядя на данные США, можно увидеть J-образную кривую взаимосвязи уровня доходов и фертильности, пишет Бейли: в 1980-х по мере увеличения дохода домохозяйства у женщин было все меньше детей, однако с 2010-х это уже не так – у более богатых больше детей. Аналогично, примерно с 2000-х гг. женщины с ученой степенью стали рожать больше детей, чем женщины с высшим образованием, но без степени. Вероятно, эти изменения связаны с развитием рынков ухода за детьми и с растущей возможностью оплачивать этот уход, товары, услуги и другие связанные с детьми расходы. Если так, то у демографии появились «зеленые ростки»: данные о том, что более богатые рожают больше детей, могут быть хорошим предзнаменованием возвращения обществ к рождаемости, необходимой для воспроизводства населения, заключает экономист. Нужно только выяснить, как сделать более совершенными услуги и гаджеты по уходу за детьми, а затем – как сделать их массово доступными.
Меритократия может стать путем к процветанию, но без демократии – ненадолго: профессор Стэнфорда Джон Кохрейн делится в своем блоге критическими размышлениями по поводу только что вышедшей книги Адриана Вулдриджа The Aristocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World («Аристократия талантов: как меритократия создала современный мир»). Самый верный признак того, что страна будет экономически успешной, – это не состояние ее демократии, а ее приверженность меритократии, считает Вулдридж. Он приводит в пример Сингапур – страну с «мягким авторитарным» режимом, за несколько десятилетий из нищего болота превратившуюся в одну из самых процветающих стран мира. Коммунистическая партия Китая создает систему, основанную на политической меритократии: в Китае дети соревнуются, чтобы попасть в лучшие детсады, школы, затем университеты, – и самые способные пополняют ряды госслужащих. Запад добился процветания за счет того, что ему удалось соединить демократию с меритократией, пишет автор книги: формула работала потому, что демократия обеспечивала политическую легитимность, а меритократия – хорошее правительство и экономический рост. Но сейчас меритократия на Западе подвергается нападкам под знаменем «социальной справедливости» и «расового равенства», а автократии способны компенсировать гражданам отсутствие права голоса ростом благосостояния – процветание будет все чаще ассоциироваться с автократиями, считает Вулдридж. Меритократия, или «власть достойных» – отбор на должности, связанные с принятием решений, людей на основе их навыков, таланта и подготовки, – величайшее «изобретение» человечества. С этим определением сложно спорить, но «меритократическая автократия» Вулдриджа не выдерживает критики, возражает Кохрейн.
«Меритократическая автократия» – это оксюморон, считает Кохрейн: в этой формуле вторая часть всегда возьмет верх. Группа у власти захочет сохранить власть и своих детей у власти: сложно представить автократию, которая останется меритократической на протяжении поколений; даже коммунизм в итоге переходит в монархию, как в Северной Корее. Самодержавие не является меритократическим – скорее наоборот: если вам достался плохой король, все, что можно сделать, – это ждать, когда он умрет. И демократия в США была создана как раз, чтобы противостоять антимеритократической власти короля Великобритании Георга, напоминает Кохрейн. Южная Корея в итоге стала демократией, а Китай сталкивается с дилеммой, что политическая меритократия означает потерю власти. Демократия не является автоматически меритократической и не означает автоматически эффективного управления – сама по себе она не очень хороша для сдерживания армии соискателей ренты, отмечает экономист. Демократия хороша в том, для чего и предназначена, – предотвращать тиранию и выгонять пытающихся укорениться бездельников, пишет Кохрейн. «Раздача» рабочих мест и денег в обмен на право голоса вовсе не делает автократии меритократичными. Однако и опасения Вулдриджа, что демократии будут все больше ассоциироваться с экономической стагнацией, популизмом и расовой дисгармонией, поскольку люди будут пытаться продвинуться, подчеркивая свою принадлежность к какой-либо группе, а не индивидуальные достоинства, – эти опасения выглядят небезосновательными, признает Кохрейн: «Но все эти назойливые крестьяне с вилами – чертовски меритократичны по своей сути».
Реформируя глобальные налоги, нельзя забывать об интересах малых стран, призывают Симеон Дянков, основатель рейтинга Doing Business, и Гэри Клайд Хафбауэр, бывший директор отдела международных налогов Казначейства США, в блоге Института мировой экономики Петерсона (в настоящее время оба – сотрудники этого института). Богатые страны давно пытаются предотвратить эрозию своей налоговой базы, происходящую за счет транснациональных корпораций, «скрывающих» доходы в странах с низкими налогами. В июне в Лондоне сначала министр финансов США Джанет Йеллен, а затем и президент Джо Байден присоединились к другим лидерам G7, заключив «историческую сделку» по реорганизации мировой налоговой системы. В июле это соглашение будет представлено странам G20, а затем всем 135 странам, участвовавшим в переговорах о налогах под эгидой ОЭСР. Проект предполагает две цели: первая – крупные корпорации, особенно техногиганты, в той или иной степени платят налоги в странах, на рынках которых присутствуют или где продают свои товары и услуги; вторая – минимальная ставка корпоративного налога во всех странах составляет 15%. Однако есть несколько десятков стран, отчаянно настаивающих на сохранении текущего статус-кво.
Для большинства стран не потребуется повышать ставку корпоративного налога – она уже и так 15%. Но есть еще 34 юрисдикции, где эта ставка ниже 15% или равна нулю. Помимо известных налоговых гаваней с нулевой ставкой, таких как Багамы или Джерси, а также Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, тоже имеющих нулевую ставку корпоративного налога, в эту группу входят, например, Болгария (ставка 10%), Кипр (12,5%), Венгрия (9%), Ирландия (12,5%), Молдова (12%), Черногория (9%), Северная Македония (10%), Киргизия (10%), Узбекистан (7,5%). Все они благодаря более низким ставкам преуспели в создании значительного числа рабочих мест за счет занятости в транснациональных корпорациях, отмечают экономисты. С повышением ставок они потеряют свою привлекательность для корпораций, поскольку не располагают такими ресурсами или рынками, как у более крупных стран, и рискуют не сохранить эти рабочие места. Предложение G7 должно будет учесть интересы этой группы стран, прежде чем изменить ландшафт международных налоговых правил.