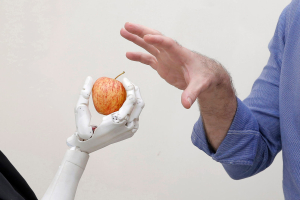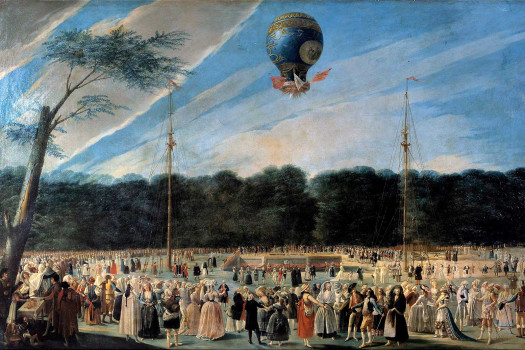«Как разбогател мир»: какие условия способствуют экономическому росту
По историческим меркам мир сегодня очень богат: почти все страны имеют более высокий средний доход, чем самая богатая страна мира – Великобритания – всего лишь два столетия назад. К началу XIX века 94% населения мира жили менее чем на $2 доллара в день (в ценах 2016 г.). А к 2015 г. меньше 10% человечества жили менее чем на $1,90 в день.
Бедности все еще слишком много, и примерно миллиард человек в мире едва сводят концы с концами, а еще сотни миллионов вынуждены жить в обстановке нищеты и насилия. Но по мере того как в XX и XXI веках мир становился богаче, все больше и больше людей вырывалось из бедности, что дает основания надеяться на дальнейшее сокращение бедности.
Но как мир сумел разбогатеть и почему одни страны сделали это намного раньше других, а третьи до сих пор так и не смогли? Чтобы сократить бедность, нужно объяснить богатство. Различные теории, посвященные этому объяснению, обсуждают в своей книге «Как разбогател мир: Исторические истоки экономического роста» историки экономики Марк Кояма из Университета Джорджа Мейсона и Джаред Рубин из Университета Чепмена. Изданная в 2022 году, в марте 2024-го эта книга вышла в переводе на русский язык в Издательстве Института Гайдара.
Делая обзор многочисленных научных теорий экономического роста, Кояма и Рубин подчеркивают, что почти все они связаны лишь с какой-то одной группой факторов: институциональных, географических, культурных, демографических.
Проблема в том, обращают внимание авторы, что ни одна из этих групп не универсальна – некоторые хорошо подходят для одного времени и места, но не работают в других. Например, религия могла сыграть роль в экономическом росте Ближнего Востока, но не Китая, а угольные месторождения – в подъеме Британии, но не Японии. Если обычно гористый рельеф препятствует процветанию (затрудняя торговлю и ведение сельского хозяйства), то, например, в Африке он, напротив, положительно сказывался на благосостоянии, потому что природные барьеры мешали работорговле. В тех регионах Африки, на которые работорговцам было проще совершать набеги, люди до сих пор беднее. Откуда берутся «хорошие институты», тоже ответить сложно: иногда, например, их определяет география – страны, в Средние века богатые природными ресурсами, в итоге получили худшие (колониальные) институты и сейчас беднее, как показали в своем знаменитом бестселлере «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон. В свою очередь, институты могут «прорастать» через изменение культуры.
Не существует единого рецепта устойчивого экономического роста, однако есть много факторов, которые ему сопутствуют: самое важное – выделить эти факторы и понять, когда они способствуют росту, а когда нет. Именно такую цель поставили перед собой Кояма и Рубин. «Эконс» публикует фрагмент из их книги, посвященный китайскому экономическому чуду.
Как богатеет Китай
Одна из непреходящих загадок истории экономического роста состоит в том, почему Китай не осуществил индустриализацию первым. Во времена расцвета династии Сун (960–1279) Китай был намного богаче, чем даже самые богатые части Европы. Тем не менее к 1850 году ВВП на душу населения в Китае составлял пятую часть английского (Broadberry, Guan and Li, 2018). В течение следующего столетия этот разрыв значительно увеличился. Что случилось? Почему Китай не пережил промышленную революцию первым?
Это не единственные вопросы, на которые необходимо ответить. За последние 40 лет китайская экономика росла с головокружительной скоростью. После десятилетий неумелого управления, голода и преследований со стороны коммунистического режима, приведших к массовому обнищанию, за последние 40 лет экономический рост избавил от крайней нищеты около миллиарда китайских граждан. Еще в 1990 году 66,2% китайцев зарабатывали менее 1,90 долл. США в день, а 98,3% населения – менее 5,50 долл. США в день (World Bank, 2020b). Для страны с населением около 1,5 млрд человек это ошеломляющие цифры.
За последние несколько десятилетий Китай стал намного богаче. По состоянию на 2016 год только 0,5% населения зарабатывали менее 1,90 долл. США в день, и 23,9% – менее 5,50 долл. США в день (World Bank, 2020b). ВВП на душу населения вырос с 71 долл. в 1962 году (около 0,20 долл. в день) до 10262 долл. в 2019 году. Это один из величайших триумфов человечества, свершившийся на наших глазах. Только в Китае более миллиарда человек вырвались из крайней нищеты. Конечно, еще есть над чем работать. Но это не значит, что нужно упускать из виду масштаб достижений. Как удалось такого добиться?
Сначала нужно разобраться с загадкой, почему Китай не разбогател первым. Хотя многое говорит о том, что экономический пик досовременной китайской империи пришелся на династию Сун, в последние годы исследования сосредоточены на последней китайской императорской династии – династии Цин, которая правила Китаем с 1644 по 1912 год. В течение первых 150 лет правления Цин Китай достиг наибольшей географической протяженности и испытал значительный демографический бум. По словам Ричарда Глана (Glahn, 2016, p. 322), этот «бум восемнадцатого века опирался на неуклонный рост населения и сельскохозяйственного производства» и свидетельствовал о появлении «зрелой рыночной экономики».
Кеннет Померанц (Pomeranz, 2000; Померанц, 2017) предположил, что около 1750 года экономика Европы мало чем отличалась от экономики Китая. Согласно его выкладкам, расхождение между Китаем и Западом следует объяснять факторами, которые стали актуальными после 1750 года. Последующие исследования, как мы увидим, не подтверждают эти выводы, но институты цинского Китая во многих отношениях действительно выглядели благоприятными для экономического роста.
Возьмем утверждение Адама Смита, что для экономического роста мало что еще требуется, «кроме мира, легких налогов и сносного отправления правосудия; все остальное приложится естественным образом» (Stewart, 1793/1980, p. 322). В XVIII веке Китай, безусловно, имел первые два ингредиента роста, и, возможно, присутствовал и третий.
Во-первых, Китай был большим единым государством. Хотя он неоднократно подвергался разделам, его долговечность как централизованного государства поистине уникальна (Ko and Sng, 2013; Ko, Koyama and Sng, 2018). С 1683 по 1796 год в цинском Китае воцарился долгий период внутреннего мира. Войны велись лишь на границах против кочевых народов. Напротив, <…> европейские государства то и дело находились в состоянии войны. Сами размеры Китая и высокая степень политической централизации тоже способствовали рыночной интеграции. <…>
Во-вторых, налоги в цинском Китае были низкими. В отличие от Европы, где между 1500 и 1800 годами налоговые сборы в государственную казну резко выросли, в Китае налоговое бремя со временем снижалось. Династия Цин ввела более низкие налоги, чем предыдущие китайские династии, а в XVIII веке ставка налога на душу населения снизилась еще сильнее (Sng, 2014). Центральное правительство не регулировало экономику. На местном уровне торговые дела регулировали купцы, организованные в гильдии.
По последнему пункту Смита («сносное отправление правосудия») Китаем управляла многочисленная меритократическая бюрократия. Современники в Европе XVIII и начала XIX века видели в этой институции гарантии справедливого и беспристрастного правления. Они противопоставляли ее европейским правительствам, которые были укомплектованы людьми, назначаемыми по протекции или путем продажи должностей. Вольтер, например, восхвалял систему экзаменов как форму беспристрастного и благожелательного правительства (yü Têng, 1943). Китайская экзаменационная система даже стала образцом для введения профессиональной бюрократии в Англии, а затем и в США. В целом китайское государство предоставляло больше общественных благ и меньше вмешивалось в повседневную жизнь, чем его европейские аналоги (Wong, 1997, 2012). По досовременным меркам китайские институты определенно обеспечивали некое приближение к сносному отправлению правосудия. Однако со временем появляются свидетельства роста коррупции (Sng, 2014).
Несмотря на эти очевидные преимущества, вместо устойчивого экономического роста после 1750 года Китай стал приходить в упадок. Серия крестьянских восстаний, кульминацией которых стало восстание тайпинов 1850–1864 годов, унесла жизни миллионов человек. Потерпев поражение от Великобритании в Опиумных войнах (1839–1842 и 1856–1860), Китай был вынужден уступить Гонконг и позволить западным колониальным державам создать фактории на территории империи.
Есть множество непосредственных причин этого коллапса. К ним относятся политические просчеты цинских элит и мальтузианский кризис, вызванный быстро растущим населением и ограниченными экологическими ресурсами. Но более глубокой причиной было отсутствие устойчивых инноваций. Причины этого были институциональными и культурными. Как задокументировал Джозеф Нидхэм (Needham, 1995), на протяжении столетий до 1500 года Китай был самой технологически инновационной частью мира. Но к XVIII веку это было уже в прошлом.
Одной из причин были политические институты Китая. Император был относительно мало чем ограничен, в отличие от Западной Европы, где города имели автономию, а парламенты оспаривали власть суверена. Еще важнее была фрагментация Европы. Хотя она означала дорогостоящие барьеры для торговли и частые конфликты, фрагментация обеспечивала значительную степень конкуренции в системе (Scheidel, 2019). Как мы видели в главе 8, именно эта фрагментация позволяла товарам и людям перемещаться в более благоприятную среду. Такие свободы отсутствовали в имперском Китае.
Более того, хотя имперская бюрократия была меритократической, судьба каждого чиновника находилась в конечном счете в руках императора (Brandt, Ma and Rawski, 2014, p. 74). Это означало, что у бюрократических агентов не было стимулов выполнять свою работу «слишком хорошо». Если бы они это делали, центральное правительство могло бы расправиться с ними в любой момент. Это было бы тем более вероятно, если бы бюрократ был богатым или независимым (Ma and Rubin, 2019). Китаем управляла централизованная, иерархическая сеть, все нити которой вели к императору. Эта сверхцентрализованная структура была эффективным способом организации большой и обширной империи, но она затрудняла поток информации между различными узлами, препятствовала инновациям и делала всю империю уязвимой для общесистемного коллапса (Root, 2020). <…>
По этим причинам институциональная и культурная среда Цин не способствовала инновациям. Хотя имперская система экзаменов поощряла инвестиции в человеческий капитал, она, как правило, воспроизводила существующие знания. У самых способных учеников был стимул к получению конфуцианского образования, которое не имело практического применения в науке или технике (Huff, 1993; Lin, 1995). Подобные культурные нормы, возможно, не были такой большой проблемой при династии Сун, которая активно поощряла инновации, но при династии Цин они неизбежно стали бременем. Значение этих норм было таково, что даже когда центральное правительство пыталось провести реформы, подобные реформам Мэйдзи (так называемое Движение за самоукрепление (1860–1894), это делалось в конфуцианском контексте. Предпочтение вместо практического образования в значительной мере отдавалось древней классике. Резюмировать это можно известной формулой: «Китайское образование как основа; западное образование для практического применения» (Wright, 1957, p. 1).
Отсутствие конкуренции или какого-либо форума, который поощрял бы инновации, в конечном счете не позволило развернуться в Китае чему-либо вроде научной революции или Просвещения. Как говорит Джоэль Мокир (Mokyr, 2016, p. 318), несмотря на высокую степень централизации и наличие единого письменного языка и литературной культуры, «в Китае парадоксальным образом отсутствовал единый объединяющий координационный механизм, такой как конкурентный рынок, в рамках которого проверялись бы новые идеи». Таким образом, централизованные политические институты в сочетании с культурой, отдающей предпочтение конфуцианской классике перед тем, что Мокир (Mokyr, 2002; Мокир, 2012) называет «полезным знанием», были ответственны за удушение китайских инноваций в течение столетий, предшествовавших промышленной революции. Тем не менее неверно было бы считать опыт Китая провальным. Как отмечает Мокир (Mokyr, 2016, p. 338): «Что действительно было исключительным и даже уникальным, так это то, что произошло в Европе в XVIII веке».
Важно понимать, что эти факторы не действовали изолированно. Они взаимодействовали друг с другом. Возьмем, к примеру, родовой (клановый) характер китайского общества. Как мы видели в главе 4, культуры, основанные на родстве, имеют определенные преимущества и недостатки по сравнению с индивидуалистическими культурами. С одной стороны, основанные на родстве культуры имеют большую страховочную сеть. Такую страховку обычно обеспечивает род. Однако это происходит за счет институционального развития. В средневековой Западной Европе общества были вынуждены создавать корпорации, внутри которых существовала взаимопомощь. К ним относятся гильдии, коммуны и торговые ассоциации. Такие институты были не нужны в Китае, где за взаимопомощь отвечал род (Greif and Tabellini, 2017). Подобная же логика объясняет, почему банковское дело и финансы впервые развились на Западе. В отсутствие рода потребность в межличностном разделении рисков и объединении ресурсов была выше. В Китае такие потребности были выражены гораздо слабее, поскольку род смягчал риски. В результате потребность в банковском деле и финансах была меньше (Chen, Ma and Sinclair, 2022).
Родовой характер китайского общества также сыграл свою роль в демографии страны. Пока в 1979 году не была введена политика одного ребенка, рождаемость в Китае была высокой. Ранние браки и система родства, при которой семья охватывала несколько поколений, а молодожены переезжали в отцовский дом, позволяли женщинам вступать в брак рано и поддерживали высокий уровень рождаемости. <…> Превалировали высокая рождаемость, высокая смертность и незначительные долгосрочные изменения в доходе на душу населения. Эта динамика помогает объяснить, почему Китай оставался бедным, несмотря на то что был мировым технологическим лидером на протяжении большей части Средневековья. <…>
Если за то, что Китай так и не реализовал свой технологический потенциал, отчасти отвечают институты, культура и демография, то какую роль эти факторы играют в объяснении быстрого роста страны в последние четыре десятилетия? Именно к этому важному вопросу мы теперь и обратимся. Китайское чудо удивительно: на протяжении жизни одного поколения из крайней нищеты вырвался почти миллиард человек. Как это произошло? Проливают ли приведенные в этой книге факторы какой-то свет на рост Китая?
Несмотря на все превратности, которые Китай пережил после поражения в Опиумных войнах и падения династии Цин, он остался автократией. В республиканский период (1912–1949) на местном уровне были предприняты первые серьезные усилия по государственному строительству и индустриализации. В период с 1912 по 1936 год промышленное производство Китая росло более высокими темпами, чем в Японии, Индии или России/СССР (Brandt, Ma and Rawski, 2017, p. 198). Одним из достижений коммунистического периода (1949–) было то, что, взяв за основу эти успехи, удалось построить современное централизованное государство. Но это стоило огромных человеческих жертв и страданий. В коммунистический период произошла принудительная коллективизация сельского хозяйства и реализован ряд пятилетних планов, кульминацией которых стал катастрофический Большой скачок (1958–1962). Возникший в результате голод был прямым следствием коммунистической политики.
То, что произошло дальше, иллюстрирует одну из издержек ухода от рыночной экономики. В условиях рыночной экономики темпы индустриализации сдерживались производительностью сельского хозяйства. Если в города для работы на фабриках будет привлечено слишком много рабочих, спрос на продукты питания увеличится, а зерно в полях останется неубранным. Ножницы спроса и предложения поднимут цены, замедляя темпы индустриализации.
Мао и его советники сочли, что смогут ускорить этот процесс, минуя рыночный механизм. В частности, они считали, что крестьяне неэффективно обрабатывают небольшие участки земли или не используют новейшие удобрения. Они также подозревали, что крестьяне заначивают зерно в надежде на прибыль. Таким образом, коллективизация рассматривалась как средство и для значительного увеличения производства, и для того, чтобы сделать излишки продовольствия доступными для государства, которое смогло бы легко собрать и транспортировать их, чтобы накормить городское население. Большой скачок тем самым был неудачной попыткой форсировать индустриализацию.
Независимо от личной вины Мао, именно политическая система в целом, характеризующаяся отсутствием сдержек и противовесов, сыграла решающую роль в разрастании масштабов трагедии. В основе голода лежали чрезмерно оптимистичные оценки производства зерна. Во многом это произошло из-за того, что у местных бюрократов был систематический стимул завышать оценки. В добавление к этому, к катастрофе привели крайне негибкая система закупок и нежелание политических элит признать наличие проблемы. Чиновники на местах ради выполнения своих квот использовали крайне насильственные методы. Крестьян, обвиненных в сокрытии продовольствия или уклонении от работы, избивали, а иногда и убивали. Коллективизация привела к резкому падению производительности, поскольку «молчаливое знание», которым обладали крестьяне, об особенностях местной почвы было утрачено, когда их загнали в колхозы. Голод сильнее всего поразил именно районы с самой высокой сельскохозяйственной продуктивностью (Meng, Qian and Yared, 2015). Между тем информация о массовом голоде замалчивалась. Количество погибших во время Великого голода спорно. Правдоподобные оценки колеблются в диапазоне от 15 млн до 45 млн (Ó Gráda, 2015, p. 130–173). Даже при сравнительно консервативной оценке в 20–30 млн погибших этот рукотворный голод кажется одним из самых черных эпизодов в истории человечества.
Один из важных уроков этой книги состоит в том, что если экономически выгодная политика игнорируется, а проводится экономически деструктивная, то ключевой причиной этого часто оказываются политические институты. Тот факт, что Китаем управляло автократическое и высокоцентрализованное государство, делал эти политические катастрофы не только возможными, но и вероятными. За катастрофами Большого скачка и Великого голода последовала Культурная революция, в ходе которой (по самым скромным подсчетам) погибло 750000–1500000 человек. В то время как Коммунистическая партия Китая сумела успешно объединить страну и направить средства в базовое образование и здравоохранение, результатом Большого скачка и Великого голода стало то, что к 1970-м годам Китай стал одним из самых бедных мест на земле. Но тот же самый автократический и крайне централизованный характер коммунистического правления позволил стране успешно изменить курс под руководством Дэн Сяопина, китайского лидера, инициировавшего рыночные реформы в 1979 году. <…>
Подобно Японии и «восточноазиатским тиграм», Китаю не нужно было заново изобретать велосипед индустриализации или современной экономики. Он мог заимствовать промышленные изделия и управленческие ноу-хау из-за рубежа, став открытым для прямых иностранных инвестиций. Огромный недоиспользованный экономический потенциал явно существовал там за десятилетия до реформ конца 1970-х годов. Имея более миллиарда человек, перебивающихся натуральным хозяйством, Китай был очевидным источником низкооплачиваемой рабочей силы. Но многочисленная рабочая сила никоим образом не была единственным или самым важным фактором роста Китая. В конце концов, такая рабочая сила существовала и до 1980-х годов, и избыточная рабочая сила давно стала характерной чертой развивающихся экономик.
Экономические реформы Китая можно разделить на два периода: ранние реформы между 1978 и 1995 годами и реформы после 1995 года (Brandt, Ma and Rawski, 2017). Первый раунд реформ разрушил многие аспекты командной экономики. Сельское хозяйство серьезно пострадало от коллективизации и неудачной попытки индустриализации сельских районов. В конце 1970-х эту политику начали отменять. Среди первых реформ было возрождение фермерства на личных участках. В период с 1978 по 1984 год производство зерна выросло почти на треть (Brandt, Ma and Rawski, 2014, p. 96). Важно отметить, что этот рост производительности в сельском хозяйстве высвободил сотни миллионов рабочих рук для перехода в промышленность.
Реформы, начавшиеся после 1995 года, включали широкомасштабную приватизацию. Доля государства в промышленном производстве снизилась с почти 50% в 1995 году до 24% в 2008 году. Расширилась правовая защита частного предпринимательства. В дореформенном Китае не было верховенства закона. С введением рыночной экономики необходимо было разработать соответствующую правовую систему. Одним из важных событий стало принятие элементов немецкого гражданского права, таких как право частных лиц судиться с государством (Fukuyama, 2014, p. 364; Фукуяма, 2017, c. 412). <…>
Нельзя сказать, что Китай перенял западные институты скопом, без разбора. Скорее, относительно незначительных шагов в сторону большего верховенства права оказалось достаточно, чтобы вызвать радикальное преобразование экономики и общества.
Как и в случае с другими экономиками Восточной Азии, еще одним аспектом подъема Китая было его открытие для мировой торговли. Создание экономических зон стимулировало прямые иностранные инвестиции в страну. С учетом того, насколько далеко Китай отставал от передовых экономик и насколько низка была его заработная плата, возможности для догоняющего роста были огромными. Когда Китай снова присоединился к мировой экономике, его торговый коэффициент (имеется в виду отношение суммы экспорта и импорта, то есть внешнеторгового оборота, к ВВП. – Прим. «Эконс») в период с 1978 по 1993 год вырос с 9,7 до 31,9% (Brandt, Ma and Rawski, 2014, p. 98). В страну потекли иностранные инвестиции, и государственные предприятия стали более эффективными. В 1990-х и 2000-х годах рост ускорился благодаря реформам, реструктурировавшим раздутый государственный сектор. С начала 2000-х годов рост Китая замедлился (тогда он составлял около 10% в год; сейчас – около 6–7%), но именно это и предсказывает модель догоняющего роста.
Это о том, что произошло. Но как это произошло? Как такой быстрый рост оказался возможен при авторитарном правительстве? Для понимания современного роста Китая важны две особенности его истории. Первая – институциональная. Хотя исторически китайский император сталкивался с мало какими ограничениями, одно различие между тем, как легитимировалось политическое правление в Китае и в Европе, заключалось в том, что для китайцев хорошее правление и означало легитимное правление. Считалось, что хороший китайский император имеет мандат неба. Если его свергали или он плохо справлялся с кризисом, это было признаком того, что у него нет мандата.
Этот принцип продолжает оказывать влияние на легитимацию коммунистического правления и сегодня, хотя и в другой форме. После 1976 года, после смерти Мао, легитимность которого была связана с его ролью отца-основателя Китайской Народной Республики, китайское руководство столкнулось с дефицитом легитимности. Ни у кого из потенциальных преемников Мао не было такой биографии, как у него; больше того, возникла внутренняя неразбериха по поводу того, кто встанет во главе. Учитывая этот дефицит легитимности, Дэн Сяопин, руководивший Китаем с 1978 по 1989 год, обратился к принципу «хорошее правление означает легитимное правление». Это помогло разрешить многие проблемы, связанные с неограниченной властью. Несмотря на то что государство могло в любое время ущемлять права своих граждан (что оно, безусловно, и делало и продолжает делать до сих пор, особенно в отношении этнических и религиозных меньшинств), если бы подобные действия стали подрывать экономический рост, они подрывали бы и легитимность правящей Коммунистической партии. Поскольку Китай остается высокоцентрализованным и авторитарным государством, то всегда существует возможность, что текущая экономическая политика поменяется на противоположную. И действительно, при президенте Си Цзиньпине с 2013 года происходит укрепление автократии и отход от рынка. Китай не избежал «проблемы плохого императора».
Еще одна историческая особенность, которая способствовала росту Китая, связана с его культурой. Как в Японии и других странах Восточной Азии, уровень грамотности в досовременном Китае был относительно высоким. Это было плодом культуры, которая рассматривала образование как способ подняться по экономической и социальной лестнице. Хотя исторически образование ограничивалось конфуцианской классикой, после демонтажа старой китайской бюрократии в 1905 году этот тип образования утратил свое прежнее значение. Но упор на образование остался, особенно в тех местах, где оно было важно в прошлом. Те местности, из которых в имперский период вышло больше высокопоставленных бюрократов, по-прежнему имеют гораздо более высокий уровень образования сегодня (Chen, Kung and Ma, 2020). Это наследие высокого уровня образования, вероятно, является одной из причин того, что экономический успех Китая не иссяк (Brandt, Ma and Rawski, 2014).
В этом разделе были упущены многие аспекты истории Китая и его недавнего подъема. Тем не менее вместе с другими примерами, рассмотренными в этой главе, он демонстрирует как возможности, так и ограничения, связанные с использованием уроков истории для понимания того, почему бедные части мира могут разбогатеть. Китай стал относительно богатым, не имея многих атрибутов Англии XVIII века или США XIX века. Прежде всего, власти там были мало чем ограничены. Тем не менее эти истории указывают нам на то, что может иметь значение для экономического роста. Институты имеют решающее значение. Но мы также ограничены в наших знаниях о том, какие институты имеют значение. Когда Китай отказался от командной экономики, он также бросил вызов политическому консенсусу 1990-х годов (известному как Вашингтонский консенсус), в котором упор делался на приватизацию и дерегулирование (Weber, 2021). Тем не менее темпы экономического роста в Китае были выше, чем в странах, принявших эту политику, которая считалась передовой.
Подходящие институциональные реформы всегда будут зависеть от контекста и политических ограничений. Это один из ключевых выводов этой книги. То, что сработало и сделало некоторые части мира богатыми, сработало в определенном культурном, историческом и институциональном контексте. Мы можем извлечь уроки из этого прошлого, но не должны слепо ему следовать.