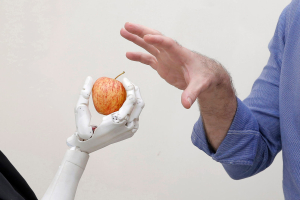Роберт Солоу: «Сосуществование крайнего богатства и крайней нищеты кажется мне аморальным»
Чтобы увеличить производство в стране, можно построить больше фабрик, больше станков и нанять больше людей, то есть аккумулировать больше труда и основного капитала. Но увеличить производство можно и при неизменных ресурсах труда и капитала – за счет усовершенствования станков и методов производства, то есть за счет технического прогресса. Улучшение образования, обучения, способов организации производства – тоже прогресс, который ведет к повышению производительности. Роберт Солоу в своей работе в 1956 г. математически обосновал, что накопление основного капитала не может само по себе обеспечить непрерывный долгосрочный рост экономики: он зависит именно от технического прогресса. Факторы роста, не относящиеся к труду и капиталу, стали называть совокупной факторной производительностью (или «остатком Солоу»). Работы Солоу помогли убедить правительства направлять средства на технологические исследования и разработки, чтобы стимулировать экономический рост.
За свой вклад в теорию экономического роста и изучение факторов, способствующих росту благосостояния, Солоу получил Нобелевскую премию по экономике в 1987 г. и стал «живым классиком». Он также не менее выдающийся преподаватель: четверо его студентов – Уильям Нордхаус, Питер Даймонд, Джордж Акерлоф и Джозеф Стиглиц – тоже стали нобелевскими лауреатами по экономике. И сам Солоу тоже был учеником нобелевского лауреата, Василия Леонтьева (см. врез ниже). «Кажется, я первый нобелевский лауреат, который был учеником нобелевского лауреата», – отмечал он.
В августе 2023 г. Солоу исполнится 99 лет. Он почти полвека, до 1995 г., преподавал в MIT, а с тех пор является его почетным профессором. Недавно Солоу побеседовал со Стивеном Левиттом, соавтором экономического бестселлера Freakonomics и одноименного подкаста. Левитт назвал этот выпуск «98 лет экономической мудрости», отметив, что в своем возрасте Солоу по-прежнему отличается остротой ума.
«Эконс» приводит выдержки из интервью Солоу.
Об экономическом росте и стационарной экономике
– Тот факт, что я провел большую часть своей жизни, изучая, как возникает рост в современной индустриальной капиталистической экономике, не означает, что я большой поклонник этого. Я мог бы посвятить свою жизнь изучению бактерий, вызывающих туберкулез, но это не значит, что я выступаю в их защиту. Не думаю, что рост сам по себе является или должен быть специфической целью современной экономики. Однако есть много людей, в профессии [экономиста] и вне ее, которые думают, что современная индустриальная капиталистическая экономика не может существовать без роста. И я хотел бы обсудить этот вопрос.
Итак, я хочу представить экономику, подобную нашей, и подумать о том, на что она была бы похожа, если бы она была стационарной, то есть не росла и не сокращалась. Первое, что было бы действительным, – то, что численность населения постоянна. Второе: никаких инноваций не происходит. Нет новых продуктов, нет новых отраслей, ничего подобного. Экономика стационарна и просто воспроизводит сама себя.
Думаю, важно осознавать, что нет такого экономического закона или принципа, который утверждал бы, что такая экономика не может существовать и процветать. Нигде не написано, что для рыночной экономики выбор заключается в том, что она должна либо расти, либо умереть, – это неправда. Единственный сбой, который может возникнуть в этом стационарном состоянии, состоит в том, что население захочет увеличить свое богатство за счет сбережений. Но мы не можем позволить этим сбережениям стать инвестициями, поскольку, если сбережения пойдут на строительство новых заводов, новых зданий и т.п., это переведет экономику из стационарного состояния в состояние роста.
Есть простое решение этой проблемы: правительство удовлетворяет стремление населения к накоплениям, создавая дефицит и продавая населению облигации, а вырученные средства не использует для строительства новых дорог или чего-либо еще нового, но тратит их на красивые фейерверки, замечательные концерты, на ежегодные драматические фестивали, как у древних афинян. Такая ситуация может продолжаться вечно.
Но, как мне кажется, вот о чем не думает большинство людей: в экономике, где отсутствует рост, как я уже сказал, не возникает ни новых отраслей, ни новых продуктов. И это не может быть хорошо для социальной мобильности. В такой экономике из года в год будут самовоспроизводиться одни и те же хорошие рабочие места и профессии с высоким статусом, и люди, занимающие эти рабочие места, будут готовить своих детей, чтобы те пошли по их стопам. Подобное общество будет склонно к наследственной олигархии, и это плохо.
Так что если бы я пытался добиться – ради предотвращения изменений климата, ради сохранения окружающей среды – создания экономики без роста, я бы подумал, как обеспечить социальную мобильность, как обеспечить, чтобы положение детей, выросших в бедных семьях, было лучше, чем у их родителей, в то время как ухудшится положение некоторых детей более обеспеченных родителей в распределении доходов. Это сложно. Я не специалист в этой области, однако это не сугубо экономическая проблема, это вопрос организации общества.
Об эффективности и ВВП
– Экономика может управляться эффективно или неэффективно. Я за эффективную экономику при условии, что эффективность, о которой мы говорим, включает в себя явления, которые обычно не оцениваются на рынке, – экологические элементы, которые, как правило, чрезмерно эксплуатируются в рыночной экономике.
Конечно, ошибки измерения [экономики] существуют, но увеличение реального выпуска на душу населения за последние 50 или 100 лет произошло в основном за счет более высокой производительности, а не за счет экстенсивного роста – это факт. У нас также есть очень веские основания полагать, что на пути, которым мы этого достигли, возникло множество – нет, не ошибок измерения, но неоплаченного ущерба планете, миру природы. Мы, например, до сих пор при оценке выпуска не взимаем с самих себя плату за истощение природных ресурсов. Конечно, существует и позитивная сторона: за последние 50 лет качество воздуха, по крайней мере в США, улучшилось, а не ухудшилось. Таким образом, выигрыш в эффективности предусматривает и некоторый выигрыш в экологичности.
Я хотел бы избежать слова «ошибка измерения», потому что ошибочное измерение чего-то предполагает, что вы на самом деле измеряете не то, что, как вам кажется, вы измеряете. В нашем же случае мы просто решили не измерять определенные вещи. У ООН есть целая система национальных счетов, которая уделяет гораздо больше внимания влиянию экономической деятельности человека на окружающую среду, и ООН всегда хотела, чтобы все основные страны приняли ее. По моему мнению, эта система национальных счетов, разработанная ООН, будет лучше той, что у нас есть сейчас, но я очень беспокоюсь, что если мы перейдем к ней, то потеряем возможность изучать длинные временные ряды. Я бы хотел, чтобы «плохие» измерения остались наряду с «хорошими».
О ВВП постоянно говорят в прессе, по телевидению и т.п., и большинство людей думают, что ВВП предназначен для измерения экономического благосостояния. Однако он не для этого. Он задуман как мера экономической активности. А не как индикатор, указывающий, направлена ли эта экономическая активность на правильные цели.
О неравенстве
– С начала Второй мировой войны и в течение нескольких лет после нее в США в целом становилось больше равенства. Распределение доходов – и, насколько нам известно, распределение богатства – становилось более равномерным. В 1970-х и начале 1980-х гг. ситуация изменилась, и неравенство доходов, неравенство богатства начало усугубляться. Думаю, это довольно ужасно. Меня не волнует абсолютное равенство, не волнует, зарабатываете ли вы больше денег, чем я. Но сосуществование крайнего богатства и крайней нищеты кажется мне аморальным, если использовать старомодное слово. Это аморально, потому что неоправданно и влечет за собой плохие последствия.
Большое богатство привлекает большую политическую власть, и общество, которое допускает крайности в имущественном неравенстве, так же допускает экстремальные расхождения в политической деятельности и политической власти. Думаю, это пятно на нашем обществе, и я не вижу никаких доказательств или причин полагать, что мы вообще извлекаем из этого выгоду.
Так почему же это происходит? Прежде всего, ответ на этот вопрос почти никогда не бывает однозначным. Это взаимодействие между экономическим неравенством и политическим неравенством. Все начинается с некоторого экономического неравенства, оно порождает политическое неравенство, а обладатели политической власти, получающие выгоду от этого политического неравенства, принимают законы и культивируют обычаи, которые помогают им самим.
Я не могу дать этому количественную оценку, но практически наверняка верно то, что частично увеличение неравенства за последние 40 лет или около того происходит из-за дерегулирования – стремления и готовности политиков разрешить нерегулируемую деятельность, которую когда-то они регулировали. Очевидным примером является концентрация богатства в отраслях финансовых услуг, а финансовые услуги находятся в процессе дерегулирования с тех пор, как Рональд Рейган был президентом. Это политическая проблема: политические силы толкают экономику в сторону большего экономического неравенства, а это, в свою очередь, усиливает политическое неравенство.
О Великой депрессии
– Мне было 6 лет в 1930 году и 16 лет в 1940 году, так что я рос на протяжении всей Великой депрессии. Мы не были бедной семьей. У моего отца всегда была работа, хотя ему приходилось браться за работу, которая ему не нравилась. Как я понимал из разговоров родителей, доминирующим чувством было общее ощущение незащищенности и непонимания, где заработать следующий доллар. Одним из их друзей был школьный учитель математики мистер Гинсбург. До Великой депрессии все его жалели, потому что он мало зарабатывал. Но в 1930-х гг. ему завидовали, потому что у него была надежная работа.
Так что среди того, что я усвоил, будучи «ребенком Депрессии», была важность экономической безопасности. Это на меня повлияло: я всегда выступал против представлений об эффективности рынка труда, которые равносильны навязыванию работникам неопределенности. Я до сих пор думаю, что любое понимание рынка труда должно учитывать тот факт, что людям действительно важно иметь чувство безопасности, чувство защищенности. Это не очень легко вписывается в стандартные учебники по экономике, но это одна из вещей, которым я научился, когда рос во время Великой депрессии.
Я принадлежу к поколению, основной точкой зрения которого было то, что общество потерпело неудачу. Мой опыт примерно до 21 года был связан с депрессией и войной. Экономика подвела людей; и общество их тоже подвело. Очень многие из моего поколения, из тех, с кем я учился в школе в Бруклине, стали коммунистами, троцкистами или им сочувствующими, потому что вынуждены были поверить в то, что система дала сбой. Не помню, чтобы в 2007 или 2009 г. (когда произошел глобальный экономический кризис, вызвавший спад, позднее названный Великой рецессией. – Прим. «Эконс») люди испытывали подобный фатализм или ощущение, что система сломалась, как это было в 1930-е гг. – тогда такие настроения были гораздо сильнее.
О профессии экономиста
– Думаю, что молодые люди, выбирая профессию, выбирая, чему посвятить свою энергию, реагируют на то, что они считают важными проблемами. Мои современники не умнее любого другого поколения, но они, безусловно, были больше сосредоточены на поломках системы и важности изучения механики событий. Таким образом, если поколение экономистов, выросшее во время депрессии 1930-х гг., оказалось особенно хорошим, то не потому, что они были особенно талантливыми, а потому, что их опыт побуждал их думать и беспокоиться о правильных вещах. Такие люди, как Джеймс Тобин, Пол Самуэльсон и Франко Модильяни (лауреаты Нобелевской премии по экономике 1981, 1970 и 1985 гг. соответственно. – Прим. «Эконс»), по своей природе не умнее, чем люди сегодня или вчера, но их опыт сфокусировал их.
Люди постоянно говорят: «Вы должны научиться мыслить как экономист». Я не уверен, что это хорошая идея. Нужно научиться мыслить. Иногда вопрос касается экономики, и ответ должен быть экономическим. Но мнение Гэри Беккера (основоположник теории человеческого капитала, лауреат Нобелевской премии по экономике 1992 г. – Прим. «Эконс») о том, что дети – это в конечном счете «товар длительного пользования», то есть что все можно объяснить экономическими терминами, меня никогда не привлекало. Это не кажется правильным и не описывает в точности, как мы на самом деле думаем. Если мне удалось избежать этого, я рад.
Я расскажу вам, как стал экономистом. В 1942 году мне исполнилось 18 лет, и я уже два года учился в Гарвардском колледже. В сентябре или в начале октября 1942 года я сидел на курсе психологии личности, который мне посоветовали пройти, и делал заметки. И вдруг меня осенило: я просто не могу сидеть здесь три дня в неделю и делать заметки о психологии личности, когда, наверное, самое важное событие моей жизни происходит за 3000 миль отсюда, в Европе. Я дождался окончания занятия, продолжая деловито делать заметки, затем убрал ручку и блокнот, вышел за дверь, доехал до военкомата и записался в армию. Я думал, что победить Гитлера гораздо важнее, чем делать конспекты на курсах.
Спустя три года мне нужно было оповестить Гарвардский колледж, что я возвращаюсь окончить обучение. Там сообщили, что мне нужно взять зачетную книжку и отнести в офис факультета по основной специальности. Тогда я сказал своей жене: «У меня нет основной специальности, я просто посещал разные курсы, в основном по общественным наукам. Ты специализировалась на экономике, верно? Это было интересно?» Она ответила: «Да». Ну и тогда я решил: «Была не была, попробуем». Это было в 1945 году, 78 лет назад.
О том, чего достигла макроэкономика
– Здесь я должен быть осторожным: помните, что я устарел. Я уже не могу много читать, так что не знаю, во что превратилась Чикагская экономическая школа за последние четыре или пять лет. Но я обнаружил, что появление DSGE-моделей (динамических стохастических моделей общего равновесия – макроэкономических моделей, основанных на моделировании поведения экономических агентов на микроуровне. – Прим. «Эконс») было шагом в сторону от экономики. Меня критиковали, возможно справедливо, за то, что я шутил по этому поводу.
Модель, обоснованная на микроуровне, означает экономику с одним человеком в ней, организованную так, чтобы реализовать желания этого человека. Когда я начал интересоваться экономической наукой, ее суть заключалась в том, что в экономике были люди и группы людей, придерживающихся конфликтующих интересов и противоположных убеждений. Для «микрообоснованной» модели нет места в том, что происходит или произошло десять лет назад; один из симптомов этого – то, что сторонники такого рода экономики не играют никакой роли в обсуждении того, что делать. Если бы я спросил: «Какова была позиция Чикагской экономической школы относительно того, что делать с пандемией коронавируса», не думаю, что можно было бы найти ответ. Это экономика, которая явно не предназначена для учета различий между людьми, которые заболели, людьми, которые не заболели, и людьми, которые продают вещи, которые заболевшие купили бы, если бы не заразились этой болезнью. Детали не проговариваются. Они создали то, что считают экономическим брендом, но этому бренду просто нечего сказать.
Когда я впервые заинтересовался экономическими вопросами, все дело было в том, что система оказалась сломанной и было необходимо найти способ исправить ее. Если бы я хотел причислить себя к экономической школе, я бы назвал себя эклектичным американским кейнсианцем. Реальная экономика, работающая экономика полна механизмов. Есть эксплуатационные характеристики, которыми она обладает. Коснитесь чего-то в одном месте, и реакция наступит в другом. Суть [экономической науки] заключалась не столько в том, чтобы построить математическую «микрообоснованную» модель экономики. Цель состояла в том, чтобы найти такие механизмы и попытаться понять, как они работают в несовершенном мире, в котором мы живем.
О жизни и смерти
– Я осознаю тот факт, что мое физическое состояние ухудшилось гораздо больше, чем умственное, но я определенно был более сообразительным, когда был моложе. Мне повезло, что я все еще могу думать, хотя и не так хорошо, и не так быстро, как раньше. Это просто удачное стечение обстоятельств, не думаю, что у меня были какие-то полезные привычки. Где-то кто-то – не экономист, конечно, – сказал, что разные способности деградируют с разной скоростью, и разве не интересно было бы узнать, что этим управляет? Может быть, какой-то фермент, может быть, что-то еще – это было бы хорошим примером исследований, которые мне всегда хотелось провести.
Я скучаю по своим друзьям. Я скучаю по своим коллегам. Я очень скучаю по Полу Самуэльсону. Я скучаю по Кэри Брауну (профессор MIT, эксперт по фискальной политике. – Прим. «Эконс») и другим. Очень одиноко стареть, но я не сдаюсь.
Мое отношение к смерти таково, что очень многим людям удалось с этим справиться, так что, думаю, и я смогу. Я не в восторге от самой идеи. Как сказал один мой друг: «Я не против того, чтобы когда-нибудь умереть, я просто не хочу при этом событии присутствовать».