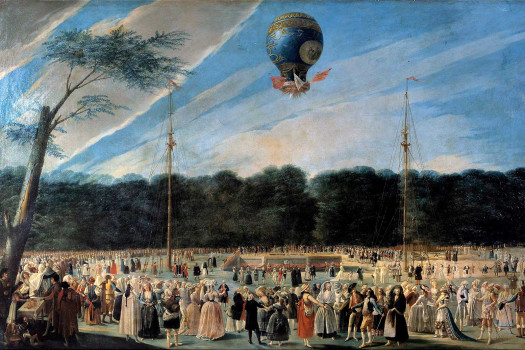Великая дивергенция и Великий разворот: роль социальных институтов
Экономическое и политическое противостояние Китая и Запада – один из определяющих вызовов современной эпохи. Этот разлом уходит корнями в глубокое прошлое, когда две цивилизации избрали совершенно разные пути экономического и институционального развития. Тысячу лет назад Европа была бедным захолустьем, а Китай – богатой и развитой цивилизацией. Однако именно Европа стала колыбелью демократии и промышленной революции, в то время как Китай под властью автократов до конца XX века находился в состоянии стагнации. Почему так произошло и какие уроки мы можем извлечь из этого для понимания современного мира?
Более двадцати лет ответ на этот вопрос определяла знаковая работа Кеннета Померанца «Великая дивергенция». Его анализ сложен и многогранен, однако главный тезис прост: расхождение произошло лишь после 1750 г. и было вызвано в первую очередь промышленной революцией. Начавшийся в Европе после 1750 г. экономический рост был в основном следствием стечения обстоятельств. Европе просто повезло оказаться ближе к залежам угля и к землям Нового Света, ее промышленный рывок не стал следствием некоего превосходства над Китаем в культуре, институтах или технологиях. Учитывая сохраняющееся институциональное расхождение между Китаем и Западом, этот тезис имеет важные последствия для будущего. Возможно, сейчас мы стоим на пороге новой масштабной технологической революции, которая на этот раз зародилась в США, но теперь уже Европа, а не Китай, оказывается в роли отстающего.
Однако игнорирование роли институтов и культуры, возможно, было поспешным. В нашей недавно вышедшей книге Two Path to Prosperity: Culture and Institutions in Europe and China, 1000–2000 («Два пути к процветанию: Культура и институты Европы и Китая, 1000–2000») мы доказываем, что оба эти фактора сыграли ключевую роль в том, что Европа и Китай встали на различные траектории экономического и политического развития задолго до начала промышленной революции. Но влияние культуры и институтов проявлялось через одно критически важное различие между Китаем и Европой: природу преобладавших в них социальных институтов.
Социальные институты и локальная кооперация
В далеком прошлом пределы возможностей государства были крайне ограничены трудностями с транспортом и связью. Тем не менее, функционирование общества требовало обеспечения защиты, образования, инфраструктуры, разрешения споров, распределения рисков, религиозных услуг. В обоих обществах, Китая и Европы, эти базовые общественные блага обеспечивались на местном уровне через кооперацию, которая поддерживалась негосударственными образованиями. Однако, в силу различий культур, социальные институты, получившие распространение в этих двух частях мира, кардинально различались.
В Китае, во время и после правления династии Сун (960–1279 гг., период, когда китайская экономика была одна из самых передовых в мире. – Прим. «Эконс»), локальная кооперация осуществлялась в основном в рамках многофункциональных организаций, основанных на родственных связях, таких как клан. Распространение этих родоплеменных структур было обусловлено и поддерживалось культурой неоконфуцианства, которое становилось все более влиятельным во втором тысячелетии. Акцент на преданности родственникам и готовность к кооперации в рамках расширенных семей постепенно стали основой китайского общества на местном уровне. Почитание предков – древняя черта китайского общества – стало более выраженным, поскольку члены кланов осознали, что общее происхождение – это тот общий знаменатель, который их объединяет.
Кланы разрабатывали подробные своды правил, которые предписывали членам кланов быть лояльными и обязанными сотрудничать друг с другом, а также подчеркивали право «старейшин» сохранять руководящую роль. Такое развитие социальных институтов приветствовалось императорским правительством, которое все больше полагалось на кланы в поддержании правопорядка на местах и в обеспечении сбора налогов.
Примерно в то же время большая часть Западной Европы двигалась в противоположном направлении. Расширенные семьи оставались важными, но большая часть значимой кооперации после примерно 1000 года постепенно перешла к корпорациям. Это были ассоциации, объединенные общей целью, а не общим происхождением. Например, средневековые гильдии поддерживали экономическое и социальное сотрудничество. Монастыри и университеты предоставляли религиозные и образовательные услуги. Самоуправляемые города разработали концепцию гражданства и обеспечивали кооперацию по ряду вопросов. Эти корпорации, как и китайские кланы, предоставляли взаимное страхование, разрешали споры, обеспечивали образование и другие местные общественные блага, но они опирались на совершенно иные культурные основы и принципы управления. В отличие от китайских кланов, европейские корпорации были открыты для чужаков, масштабируемы, предусматривали возможность выхода, полагались на формальное управление и принуждение, а их члены часто принадлежали к нескольким пересекающимся объединениям.
Это великое расхождение в социальном устройстве Европы и Китая развивалось параллельно с культурной дивергенцией. В Европе рост корпораций и упадок расширенных семей поддерживались Католической церковью, которая, в свою очередь, извлекала выгоду из симбиотических отношений с монастырями и автономными городами. В Китае клановая система, растущее влияние неоконфуцианства и распространение культа предков были синергичны. В этом смысле Великая дивергенция была самоподкрепляющимся процессом.
Примерно к 1500 г. эта социальная дивергенция в основном завершилась. Европа стала миром, где люди жили в основном в нуклеарных семьях и сотрудничали в рамках местных корпораций. А Китай был организован в кланы, которые постепенно взяли на себя функции императорской администрации.
Социальная организация и дивергенция институтов
Различия в социальных структурах Европы и Китая оказали глубокое влияние на их политические институты. Особое внимание следует уделить трем аспектам.
Во-первых, это правовые системы. В Китае, где государство изначально было сильным, правовая система создавалась по принципу «сверху вниз» с двумя главными целями: поддерживать стабильность и регулировать отношения между администрацией и ее подданными. Гражданское право играло второстепенную роль, поскольку коммерческие споры обычно разрешались кланами, и лишь в случае их неудач вмешивались магистраты-чиновники. В Европе же, где государство, напротив, изначально было гораздо слабее, правовая система развивалась по принципу «снизу вверх». Правовые принципы впервые возникли из частных договоров внутри корпораций и купеческих сообществ во время Торговой революции XII–XIII веков, а затем стали кодифицированным правом благодаря работе ученых-правоведов в университетах (которые сами являлись примером корпораций).
Эта ранняя ориентация на гражданское право имела несколько последствий: она прояснила правовой статус и права корпораций, укрепила их политически и повлияла на формирование государств. Правосудие и правоприменение были одними из первых функций государства, закрепив принцип верховенства права – ограничивая власть суверена и устанавливая равенство перед законом. Ранняя судебная функция также способствовала возникновению национальных парламентов, которые изначально разрешали споры между элитами, контролировали деятельность чиновников и рассматривали петиции. В Европе после 1150 г. сословия и ассамблеи получили широкое распространение, заложив основы для представительного управления и появления представительных собраний, которые вели переговоры с правителями.
Во-вторых, возвышение корпораций, особенно автономных городов и религиозных организаций, создало противовесы власти монархов. Чтобы обеспечить поступление налогов, правители предоставляли этим структурам «иммунитеты», или права на самоуправление, часто в обмен на доходы. Эти иммунитеты предвосхищали современные гражданские и политические права, предоставляя привилегии по принципу членства в определенных экономических и политических группах, а не по праву рождения или этнической принадлежности.
В Китае отсутствие корпоративных организаций и самоуправляющихся городов означало, что привилегии не могли быть предоставлены подобным группам. Влиятельные кланы, вероятно, пользовались преимущественным правом при наборе в государственную бюрократию и имели большее влияние, но у них не было формальных прав или представительных институтов, сравнимых с европейскими.
Наконец, европейское корпоративное управление предоставило модели для конституционного дизайна. Корпорациям приходилось решать проблемы иерархии, принятия решений, подотчетности и урегулирования споров. Средневековые правоведы, опираясь на свой опыт взаимодействия с гильдиями, университетами и религиозными орденами, адаптировали эти принципы к управлению государственными образованиями, связав корпоративную организацию с конституционной концепцией. В Китае, учитывая природу господствовавших там институтов, ничего подобного произойти не могло.
Социальная организация и экономическое развитие
Различное социальное устройство Европы и Китая также повлияло на экономическое развитие и накопление знаний. Европейские корпорации (монастыри, университеты, а позднее научные общества и академии) сыграли центральную роль в создании и накоплении знаний, что в конечном итоге привело к промышленной революции. Более того, политическая раздробленность внутри европейских государств и между ними позволяла новаторам избегать цензуры и преследований: автономные города сыграли центральную роль в формировании сети интеллектуалов, которые могли найти убежище от реакционно настроенных священников и правителей.
В Китае, напротив, образование и знания в значительной степени контролировались государством. Кланы обеспечивали обучение, но его целью была подготовка кандидатов к экзаменам на императорскую гражданскую службу. Учебная программа, в которой доминировала неоконфуцианская доктрина и которая управлялась чиновниками, ставила моральный порядок и стабильность режима выше научного поиска.
Помимо своего вклада в накопление знаний и открытия, европейские корпорации способствовали экономическому развитию еще двумя способами. Во-первых, они содействовали росту глубоких финансовых рынков и торговли с дальними территориями через безличные, юридически защищенные институты, такие как Ост-Индские компании и другие акционерные общества. Во-вторых, европейские корпоративные структуры также поощряли капиталистическую организацию производства, в которой владельцы капитала имеют контрольные права и являются конечными получателями дохода от инвестиций, в то время как работники получают фиксированную заработную плату. Такая структура стимулировала трудосберегающие инновации и использование эффекта масштаба.
В Китае, напротив, взаимодействие происходило в основном между связанными между собой лицами, что замедляло переход от локальной к безличной экономике. Более того, широкое распространение домашнего производства и практика распределения труда делали трудосберегающие инновации менее привлекательными.
Из-за различий в социальном устройстве культурные черты в Китае и Европе эволюционировали в противоположных направлениях. Это напрямую влияло на экономическое развитие. Отсутствие культа предков и меньшее уважение к старшинству делало европейцев более склонными к критике общепринятых догм и к инновациям. В более общем плане, сравнивая широкий спектр обществ, Джозеф Хенрик и Джонатан Шульц с соавторами обнаружили (1; 2), что более крепкие родственные связи отрицательно связаны с определенными культурными чертами, которые, как правило, считаются благоприятствующими экономическому росту, такими как деперсонифицированное доверие, моральный универсализм, аналитическое мышление, индивидуализм, готовность к сотрудничеству с незнакомцами.
Современный Китай
Великий разворот был частично преодолен в ХХ веке. Произошло ли это потому, что Мао Цзэдуну удалось искоренить культурное наследие конфуцианства и социальное влияние кланов? Ответ – нет. Мао действительно пытался это сделать, и его кампании нанесли урон традиционным структурам. Но им не удалось искоренить ценности родства, которые вновь проявились после смерти Мао. Даже в разгар маоистского тоталитаризма родственные связи продолжали играть значительную роль и смягчали последствия катастрофической политики, которая привела к Великому голоду 1959–1961 гг.
Напротив, ключевым фактором впечатляющего экономического возрождения Китая при Дэн Сяопине стала его способность адаптировать традиционные институты и культурные практики к потребностям современной экономики. В условиях отсутствия сильных прав собственности и формальных правовых институтов сети, основанные на родстве, помогали поддерживать рыночную активность и экономический рост. Неформальная кооперация, укорененная в родственных и общинных связях, заменила собой правовую и финансовую инфраструктуру, которая поддерживала развитие Запада.
В отличие от императоров, правивших после падения в 1279 г. династии Сун, руководство современного Китая проводит политику, четко ориентированную на стимулирование роста, что способствовало исключительному экономическому прогрессу страны с начала 1980-х гг. Время покажет, смогут ли китайские институты и впредь поддерживать экономический рост в условиях авторитарного государства, где личная свобода и доступ к информации жестко контролируются централизованным правительством.
Оригинал статьи опубликован на портале CEPR.org/VoxEU. Перевод выполнен редакцией Econs.online.