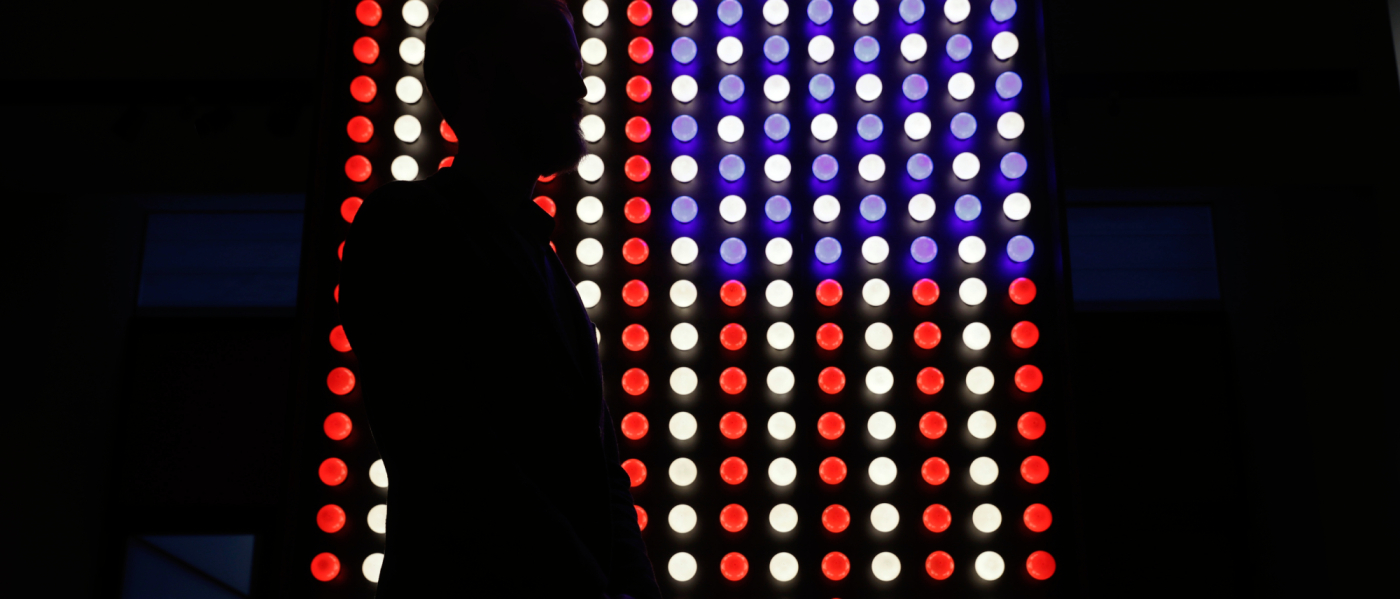Шокирующие тарифы Америки: при чем здесь средний класс
Тарифные меры Дональда Трампа схожи с землетрясением, перевернувшим ландшафт глобальной торговли. Но вызвано это землетрясение сдвигами тектонических плит – давними трудностями, с которыми сталкивался американский средний класс. Как и в других развитых странах, он пострадал от глобализации и роботизации, но, в отличие от других развитых стран, социальная политика США не смогла помочь работникам адаптироваться к глобальным переменам, считает профессор международной экономики бизнес-школы IMD в Лозанне Ричард Болдуин.
Это подпитывало экономическое разочарование среднего класса и поддержало избрание протекциониста. Однако тарифами невозможно решить социальные проблемы. Помочь их решить могло бы большее перераспределение, что потребует более высоких налогов, но это политически невозможно, заключает эксперт.
«Понять торговую политику США наших дней сложно. И почти невозможно, если не понимать недовольства американского среднего класса и того, как оно копилось десятилетиями и при демократах, и при республиканцах», – рассуждает Болдуин. Изучение провалов как традиционных демократов, так и традиционных республиканцев требует усилий и вызывает дискомфорт, но такие усилия позволят понять, почему кардинальное изменение отношения США к международной торговле – это, скорее всего, всерьез и надолго, отмечает Болдуин.
Если в двух словах, то недовольство среднего класса привело к нерешительности в торговой политике в первый срок президента США Барака Обамы (который придерживался свободы торговли, но ввел пошлины на китайские шины; подписанное после нескольких лет переговоров соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, которое должно было устранить 18000 тарифов на американские товары и повысить конкурентоспособность американского экспорта в сравнении с китайским, так и не было ратифицировано, а затем было отменено Трампом). Во время первого президентского срока Трампа нерешительность США сменилась враждебностью, а во время второго срока Трампа превратилась в нечто близкое к изоляционизму.
Подрыв американской мечты
Спросить, почему средний класс в Америке так зол, проще, чем ответить, признает Болдуин, но предлагает свое объяснение. В целом эта реакция не иррациональна, а объясняется экономической реальностью – в которой многие американцы не могут даже мечтать о том, чтобы купить дом, в котором они выросли, и не имеют шансов на гарантию занятости, которую родители воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Среднему классу сегодня трудно позволить себе жить как средний класс на доходы, которые он получает, отмечает Болдуин. Хотя за последние пять десятилетий доходы всех американцев выросли, доля доходов домохозяйств, приходящаяся на средний класс, все это время, с 1980-х гг., снижается.
Но дело не только в деньгах. Последние несколько десятилетий пошатнули уверенность в будущем у многих работающих американцев, разрушив американскую мечту. Особенно сильно это разочарование среди тех, кто не учился в университете, но даже и у многих среди тех, кто учился. Американская мечта – это не обещание успеха, это идея и вера в то, что упорный ежедневный труд позволит любому – независимо от происхождения – построить лучшую жизнь для своей семьи. Частью американской мечты была и вера в то, что шанс стать одним из победителей есть всегда, вне зависимости от природы потрясений и изменений.
Откуда такая уверенность? Расцвет американского среднего класса после опустошительной Великой депрессии – не что иное, как чудо, вспоминает Болдуин. Экономика США и ее средний класс были разрушены Великой депрессией. И «Новый курс» – политика, проводившаяся в 1930-х для поддержки экономики и борьбы с безработицей, – превратил государство в помощника маленького человека: оно должно было стремиться обеспечить полную занятость, чего, согласно появившейся в 1930-е кейнсианской доктрине, без вмешательства государства свободные рынки сделать не могли. Именно тогда были внедрены социальная защита и страхование безработицы, легализованы профсоюзы и коллективные переговоры и принят закон о справедливых условиях труда (Fair Labor Standards Act), который устанавливал минимальные требования к условиям на рабочих местах.
В 1980-х представления о правительстве как о защитнике сменили концепция экономики предложения и «теория просачивания благ сверху вниз». Согласно первой, для стимулирования экономического роста нужно было снизить налоги и расходы бюджета, включая социальные, а также сократить регулирование экономики. А согласно второй, низкие налоги для корпораций и богатых людей улучшат всеобщее благосостояние, поскольку раз денег у корпораций и богатых будет оставаться больше, то будет больше расти их спрос, а значит, создаваться больше рабочих мест для его удовлетворения, и тем самым повысится уровень жизни всего общества в долгосрочной перспективе.
В Америке, в которой вырос родившийся в 1911 г. президент-республиканец Рональд Рейган, люди действительно верили, что правительство существует для того, чтобы помочь маленькому человеку. Благодаря государственным инвестициям, финансовому регулированию и социальной защите федеральное правительство США оживило экономику, восстановив уверенность в ней общества и веру в американскую мечту. Когда Рейган вступил в должность в 1981 г., максимальная ставка подоходного налога составляла около 70%. Через 10 лет она снизилась до 40%, где и оставалась – ее не меняли ни демократы, ни республиканцы.
Снижение налогов не было бесплатным – ценой стала эрозия социальной политики Америки, пишет Болдуин. Правительство не отказалось от всех социальных программ, но видимую руку помощи правительства постепенно сменила невидимая рука рынка – подорвав систему безопасности, на которую могли рассчитывать в трудные времена работающие семьи.
Глобальные потрясения: удар по среднему классу
Ослабление социальной политики совпало по времени с другим сейсмическим сдвигом: революцией информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которая ускорила промышленную автоматизацию и послужила «турбозарядом» для глобализации в конце 1980-х.
Экономический эффект этого комбинированного потрясения, который Болдуин называет глоботическим, – массовая передислокация рабочей силы во всех развитых экономиках. Ее часть, связанную с глобализацией, часто именуют китайским шоком (1, 2) – так называют негативное влияние китайского экспорта на занятость в промышленности развитых стран. Современные исследования показывают, что расширение торговли Китая после вступления страны в ВТО в 2001 г. повлияло на занятость в промышленности США и Европы в лучшем случае частично – она снижалась с 1960-х гг., при этом росла занятость в сфере услуг. Несмотря на совокупный выигрыш и США, и Китая от расширения торговли, в обеих странах наряду с победителями были и проигравшие. Тем не менее влияние торговой экспансии Китая на рынки труда развитых стран получало обычно негативные оценки, что породило соответствующую реакцию.
От развития ИКТ также одни работники выиграли, а другие проиграли. Пострадали работники со средним уровнем квалификации, занятые ручным трудом, – профессии, которые в пору молодости Рейгана относили к хорошей работе. Промышленная автоматизация создала более качественную замену ручного труда средней квалификации – особенно работников, занятых на фабриках. Это замедлило рост их зарплат и сузило возможности для поиска работы теми, кто ее потерял.
Совершенно противоположное произошло за это время с работниками с высшим образованием. Окончившим университеты и занятым в наукоемких профессиях ИКТ-революция дала преимущества: улучшенные инструменты для работы, такие как настольные и портативные компьютеры, удобные базы данных, программное обеспечение и аналитические инструменты.
Этот резкий контраст можно рассматривать как поворот в навыках: для работников средней квалификации ИКТ создали замену, а для работников с высшим образованием – более качественные дополняющие их труд инструменты. Результатом стал заметный рост неравенства после изобретения компьютера с чипом в 1973 г.
Кроме того, развитие ИКТ позволило разделить производство на отдельные этапы и полностью его координировать, даже при перемещении части процессов в отдаленные развивающиеся страны. Таким образом, ИКТ сделали офшоринг возможным, а огромные различия в зарплате – прибыльными.
Ключевой, но недооцененный момент – офшоринг оказался столь эффективен за счет сочетания передовых производственных технологий американских фирм с низкооплачиваемым трудом развивающихся экономик. Новое высококонкурентное соединение высоких технологий с низкими зарплатами, созданное промышленным офшорингом, снижало конкурентоспособность работников развитых экономик, которые имели и доступ к высоким технологиям, и высокие зарплаты. Аналогичные трудности испытывали промышленные рабочие на развивающихся рынках, которые не получили офшорных этапов производства. Им приходилось конкурировать, работая с низкими технологиями и за низкие зарплаты.
Позже выяснилось, что все это привело к резкому росту доли стран с высоким уровнем технологий и низкой зарплатой в глобальной обрабатывающей промышленности, особенно Китая. Доля стран, обладающих высокими технологиями и высокими зарплатами, уменьшилась. Доля оставшихся стран с низким уровнем технологий и низкими зарплатами в глобальном производстве практически не изменилась.
Социальное опустошение Америки
Со всеми этими потрясениями американский средний класс должен был справляться в одиночку. В отсутствие системы социальной защиты это привело к никогда прежде не виданному: опиоидному кризису, эпидемии ожирения, медицинским банкротствам – когда из-за непомерного долга медучреждениям люди вынуждены объявлять себя банкротами, огромному студенческому долгу, растущему уровню бездомности и смертям от отчаяния, перечисляет Болдуин. В других развитых странах нет социальных патологий на уровнях, сопоставимых с США.
Все это время средний класс вынужден был наблюдать, как богатые все сильнее отдаляются от него, взбираясь по шкале доходов все выше, тогда как бедные, наоборот, его догоняют. Это означало, что американская мечта все еще работала – но только не для среднего класса, пишет Болдуин.
Результатом стали экономические и социальные потрясения, которые привели к серьезному и длительному «недомоганию» среднего класса. Странно, но почему-то никто не думает, что политическая система США может это исправить или хотя бы попытаться, отмечает Болдуин.
Неудивительно, что средний класс обозлился. Каждые четыре года он избирал в президенты традиционного демократа или традиционного республиканца, но ни один из них не приносил ему значимого облегчения. И даже не представил заслуживающих доверия планов по решению социально-экономических проблем Америки. Ведь столь необходимая социальная политика потребовала бы повышения налогов, что стало политически невозможным в США по причинам, которые трудно определить, рассуждает Болдуин: «С учетом всего этого приход популистов был почти неизбежен».
После 40 лет растущего недуга среднего класса и отсутствия реальных решений американцы избрали президентом миллиардера, который обвинил в разрушении среднего класса глобализацию и вокизм – активистов, сфокусированных, нередко в гипертрофированных формах, на борьбе с дискриминацией и колониализмом. «Этот миллиардер пообещал помочь среднему классу, отменив еще больше социальной политики, снизив налоги для корпораций и состоятельных людей. Трудно понять, как такую рекламу удалось «продать» среднему классу, но она сработала», – пишет профессор.
«Мое объяснение заключается в том, что злость на традиционных демократов и республиканцев за их провалы на протяжении десятилетий заставила средний класс попробовать хоть что-нибудь, что угодно, что было бы не совсем таким, как прежде. Что-то должно было измениться. Как говорится – придет час, придет и герой. По крайней мере, это одно из объяснений политических землетрясений, произошедших в ноябре 2016 и 2024 гг. [когда победу на президентских выборах в США одержал Трамп]», – полагает Болдуин.
Почему акцент – на борьбе с торговлей?
Ответная реакция и популизм вполне понятны, но остается вопрос, почему сегодняшний популизм так враждебен по отношению к международной торговле. Кажущийся естественным ответ – потому что торговля в отсутствие «руки помощи» государства стала причиной проблем среднего класса, а антиторговая политика должна их решить. Но этот ответ неверен, указывает Болдуин.
Тарифы не исправят – и не могут исправить – положение среднего класса США, объясняет Болдуин: «Это в буквальном смысле невозможно».
- Тарифы защищают отрасли производства товаров, где занято мало американцев (около 8% из них работают в обрабатывающей промышленности и около 2% в сельском хозяйстве); большинство же заняты в сфере услуг.
- Тарифы не могут применяться к импорту услуг (пошлины взимаются, когда товары проходят через таможню, но услуги не проходят через таможню и потому не могут облагаться пошлинами).
Это означает, что тарифы только нанесут вред большинству работников среднего класса, приведя к повышению цен на товары и не обеспечив никакой дополнительной защиты рабочих мест в секторе услуг. «Я жду, как отреагирует средний класс, занятый в секторе услуг, когда увидит, что тарифы повысили цены на товары, которые он каждую неделю покупает в гипермаркетах Walmart», – пишет Болдуин.
Среднему классу не помогут не только тарифы. Но и те меры поддержки, которые используются в других странах с развитой экономикой, – тоже. Они потребуют расширения правительства и повышения налогов, тогда как средний американский избиратель далек от того, чтобы поверить, что расширение правительства и рост налогов улучшат ситуацию.
А поскольку нет решения, которое было бы одновременно экономически эффективным и политически осуществимым, американские политики обратились к проверенному временем плану: убедить избирателей, что это вина кого-то другого. Любой политик знает, что если он не может решить проблему, то надо найти кого-то, на кого можно свалить вину, отмечает Болдуин. Весь спектр политического сообщества США – и республиканцы, и демократы – решил, что иностранцы и торговля, и особенно Китай, – отличные кандидаты на роль виноватого.
Тарифы применяются не в качестве решения, а в качестве оправдания отказа от того, что действительно могло бы помочь, – например, социальной политики по канадскому образцу, считает Болдуин. В Канаде, в частности, универсальный всеобщий доступ к здравоохранению и более широкое социальное страхование, притом что ставки налогов в Канаде в целом ненамного выше (за исключением налога на прирост капитала). Однако соотношение налоговых сборов к ВВП в Канаде в 2023 г. составило 34,8% против средних по ОЭСР 33,9% и 25,2% – в США.
Главные последствия
Таким образом, беды американского среднего класса – результат не только технологических и глобализационных потрясений и, разумеется, не его вина. Они – результат ликвидации политики корректировки, которая помогла бы людям с этими потрясениями справиться. Нараставшие годами трудности американского среднего класса – коренная причина его злости и недовольства, которые привели к власти Дональда Трампа и к глобальной торговой войне, заключает Болдуин.
Роль провала социальной политики хорошо видна, если сравнить опыт США с опытом других развитых экономик, отмечает профессор. Хотя они также пострадали от глоботических шоков, их правительства смягчали эти последствия подключением «помогающей руки» государства. В результате негатив среднего класса был здесь довольно умеренным и, как правило, сосредоточен на иммиграции, а не на торговле.
«На мой взгляд, акцент на тарифах популярен у американских политиков не потому, что это якобы верное решение проблем среднего класса, а потому, что тарифы заменяют политически непопулярные решения, которые могли бы дать реальный результат. При этом тарифы имеют преимущество: они создают впечатление, что проблемы среднего класса «сделаны не в Америке», – хотя на самом деле именно в ней», – пишет Болдуин.
Что все это означает для мировой торговли? Болдуин делает три основных вывода.
- Во-первых, «недуги» среднего класса США будут продолжаться еще очень долго. Торговая политика этого не исправит, поскольку большинство представителей среднего класса работают в секторе услуг: тарифы его не защищают, а, наоборот, наносят ему ущерб. При этом политика, которая способна помочь среднему классу, потребует повышения налогов, что при нынешнем политическом климате в США неосуществимо.
- Во-вторых, антиторговый нарратив США начался не с Трампа и, скорее всего, надолго сохранится и после его президентства. Политическое сообщество всех спектров сочло иностранцев, особенно Китай, и торговлю товарами прекрасными объектами для обвинения в проблемах американского общества. Поскольку экономически эффективных и политически приемлемых мер для решения этих проблем не предвидится, торговля продолжит оставаться в США «мальчиком для битья» в обозримом будущем.
- В-третьих, «недуги» американского среднего класса не означают конца мировой торговой системы в том виде, в котором мы ее знаем. На США приходится меньше 15% глобальной торговли, поэтому, если другие страны не последуют примеру США в отношениях друг с другом, с торговлей в целом все будет хорошо.