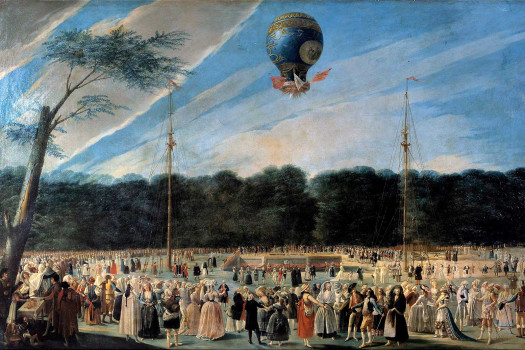Сказочная экономика: как фольклор влияет на экономические решения
Люди мыслят историями и объясняют мир, рассказывая истории. События на финансовых рынках, спортивные мероприятия и даже судебные заседания разворачиваются как повествования. О том, что истории, впечатляющие людей и передающиеся в социуме, способны влиять на экономические и финансовые решения и тем самым управлять рынками и подъемами и спадами экономики, экономисты задумались относительно недавно. В книге «Нарративная экономика» 2019 г. Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике, сравнил такие истории, или нарративы, с вирусами: распространяясь в обществе так же быстро, истории способны «заражать» все больше и больше людей.
Обычно под нарративами исследователи имеют в виду распространяющиеся в обществе новости, настроения, содержательные сигналы ключевых организаций (например, сообщения ОПЕК или коммуникации центральных банков). Однако существуют более фундаментальные нарративы, глубоко укоренившиеся в обществе: это фольклор.
Сказки существовали в человеческой культуре задолго до появления письменности и передаются от предков к потомкам веками. Их долговечность предполагает, что они играют важную роль в человеческой культуре и социальной адаптации. Джонатан Готтшалл, автор бестселлера «Как сторителлинг сделал нас людьми», сравнивает истории с авиатренажерами для пилотов: он считает, что изначально рассказывание историй развивалось, как и другие виды поведения, чтобы обеспечить выживание, и до сих пор помогает ориентироваться в сложных проблемах.
Известный филолог и фольклорист Владимир Пропп, одним из первых начавший анализировать структуру и элементы народных сказок, обращал внимание на тесную связь между фольклором и действительностью. Сказка отражает то, что находится «в головах» у людей, – в том числе формы мышления, формы организации общества и его социальных институтов, производства, семейных отношений и т.д. То есть сказка отражает свойственное обществу мировоззрение, поведенческие установки и социальные ценности. «Сказка – явление идеологического порядка», – указывал Пропп.
Например, в сказке о царевне-лягушке царь вдруг начинает задавать своим снохам различные трудные задачи (сюжет о том, как трое братьев находят жен, пустив наудачу стрелы или другие предметы, и как жена младшего сначала оказывается животным или уродиной, а затем – красавицей и волшебницей, присутствует в фольклоре более 100 этнических сообществ от Северной Африки и Южной Азии до Северной Европы и Южной Сибири). С какой целью или по какой причине царь решает задать эти сложные задачи, как правило, не уточняется. Однако в итоге ложные герои оказываются посрамлены, а истинный герой – возвеличен. Сказка это транслирует в качестве социально желаемого результата, и задавание трудных задач позволяет его достичь.
Социализация в среде, где рассказываются определенные истории, формирует убеждения, нормы, поведение и тем самым экономические результаты. В том, как именно сказки влияют на экономику и финансы через убеждения, экономистам помогают разобраться классификации сказочных сюжетов в привязке к их географической распространенности. В последние годы вышло несколько работ, основанных на подробнейшей и уникальной классификации фольклорно-мифологических мотивов народов мира, которую создал Юрий Березкин, историк, этнограф и антрополог, сотрудник Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН. Работа над этим каталогом ведется им с 1993 г., с 2003 г. каталог доступен онлайн – на русском (более подробный) и на английском языках. На данный момент в нем содержатся данные о 3250 фольклорных мотивах и их географической распространенности среди почти тысячи этнических групп по всему миру (каталог продолжает пополняться Березкиным и его коллегой Евгением Дувакиным).
Некоторые мотивы можно считать универсальными, поскольку они широко распространены, тогда как другие встречаются только в нескольких фольклорных традициях. Например, мотив, в котором описывается, что отец или другие родственники жены или невесты героя пытаются испытать его, можно найти у 355 из почти тысячи этнических групп на всех континентах. А мотив про кисельные берега, означающий невозможное в реальности изобилие, – только в 11 этнических обществах, проживающих на территории России, Белоруссии и некоторых стран Скандинавии и Балтии. В среднем один и тот же сказочный мотив охватывает 18 сообществ.
Сказочные мотивы и современные ценности
Общества, в чьих сказках обманщики будут скорее наказаны, чем нет, сегодня демонстрируют более высокие степень доверия и уровень жизни. Общества, где распространены нарративы о том, что состязания наносят вред тем, кто принимает в них участие, сегодня менее склонны к риску и отличаются меньшей предпринимательской активностью. В обществах, в чьем фольклоре мужчины изображаются как доминирующие, а женщины как покорные, как правило, женщины находятся на подчиненных позициях как исторически, так и в современности. К такому выводу пришли Стелиос Михалопулос из Университета Брауна и Мелани Мэн Сюэ из LSE, проанализировав фольклорные мотивы из каталога Березкина и соотнеся их с современными установками обществ 199 стран в отношении доверия, принятия либо избегания риска и гендерными нормами.
Доверие: сказочные обманщики. Во всем мире существует множество сказок, в которых действуют трикстеры (ловкачи, хитрецы), нарушающие общественные нормы и обманывающие других. В некоторых историях эти обманщики избегают наказания за свои действия, в других – наоборот, трикстера настигает расплата или он просто не добивается успеха.
Из в общей сложности 224 мотивов, содержащих обман, хитрость или уловку, в 46% трикстер был изображен как успешный персонаж, в 36% как неудачливый, а в остальных случаях исход антисоциального поведения определить было невозможно.
В фольклоре одних и тех же обществ могут присутствовать как мотивы, в которых обманщик наказывается, так и мотивы, в которых он преуспевает. Авторы высчитали баланс, и в среднем по всем странам он оказался равен минус 2,5% – то есть в среднем в мире обманщики с большей вероятностью избегают наказания за свои действия.
Однако между странами существуют значительные различия. Например, в фольклоре сообществ одних стран (Бахрейн, Шри-Ланка, Дания, Нидерланды) наказание за антисоциальное поведение содержится в большинстве историй с участием обманщиков, а в фольклоре других (Того, Ангола, Гаити, Буркина-Фасо, Босния и Герцеговина, Мьянма), напротив, мошенники остаются безнаказанными гораздо чаще.
Анализ исследователей показал, что отношение к обманщикам в фольклоре того или иного общества коррелирует с сегодняшним уровнем доверия в нем (измеренным по World Values Survey и Global Preferences Survey), поскольку фольклорные мотивы, в которых обычно подчеркивается наказание трикстеров, отражают среду низкой терпимости к антисоциальному поведению. Увеличение на 1 стандартное отклонение частоты неудач сказочных обманщиков связано с увеличением доверия в обществе примерно на 0,35 стандартного отклонения, рассчитали исследователи.
Доля наказуемых в сказках обманщиков связана с современным уровнем экономического развития, поскольку доверие способствует кооперации в экономике. Сопоставив фольклорные мотивы и уровень ВВП на душу населения, авторы обнаружили, что, в среднем, чем чаще в фольклоре стран наказывается обман, тем экономически более успешны эти страны в настоящее время.
Отношение к риску: сказочные герои. Истории о состязаниях и испытаниях – еще одна популярная тема в сказках большинства стран мира. В 48% таких мотивов персонажи добиваются успеха (например, побеждают чудовище), в 19% герою причиняется вред (как, например, Прометею, который рискнул противостоять богам и оказался навечно прикован цепями к горе; вариации данного сюжета «Прикованный силач» встречаются в 12 этнических сообществах). В среднем в фольклоре сообществ каждой страны примерно 6% тем связаны с испытаниями и состязаниями, и в одном из каждых шести таких сюжетов герой терпит неудачу.
Сказки, в которых герои выигрывают состязание и успешно справляются со сложными испытаниями, транслируют в качестве нормы толерантное отношение к риску. Например, согласно сведениям из Global Preferences Survey, в Европе наиболее толерантная к риску страна – Нидерланды, тогда как Россия – одна из стран с наибольшим избеганием риска. Доля мотивов, изображающих героя, преодолевающего трудности, в голландском фольклоре в два раза больше, чем в русском.
Толерантность к риску, в свою очередь, играет ключевую роль в предпринимательской активности. И распространенность фольклорных мотивов об успешно пройденных героями испытаниях положительно коррелирует с современным уровнем предпринимательской и инновационной активности, обнаружили исследователи. На разных континентах те страны, сказки которых изображают проблемы как возможности, а не как трагедии, демонстрируют более высокие показатели предпринимательства – большее количество патентов (в расчете на 100000 человек), большее количество новых регистраций предприятий (в расчете на 1000 человек).
Гендерные нормы: сказочные стереотипы. Женщины и мужчины в фольклоре, как правило, изображаются стереотипно. Ключевые черты мужчин – жестокость, доминирование и самоуверенность: такими они представлены в 33% всех мотивов с мужскими персонажами, выявленных в каталоге Березкина. И только в 15% мотивов, то есть вдвое реже, – как покорные и зависимые. Среди всех мотивов с женскими персонажами пропорция практически ровно обратная: примерно в 15% сюжетов женщины жестокие, доминантные и самоуверенные и в 30% – покорные и зависимые. По сравнению с мужчинами женщины почти в два раза чаще представлены вовлеченными в домашние дела и в два раза реже – активными акторами. Однако при этом женщины в среднем описываются как более умные и менее наивные, чем мужчины.
Отслеживание гендерных стереотипов в фольклоре показывает, что общества, в сказках которых женщины чаще изображаются как покорные, вплоть до сегодняшнего дня более склонны отводить женщинам подчиненные роли. Это отражается, в частности, в участии женщин в рабочей силе: в странах, где в сказках относительно больше образов доминирующих и активных мужчин и зависимых и привязанных к дому женщин, женщины систематически менее интегрированы в рынок труда. По расчетам авторов исследования, увеличение «мужской предвзятости» на 1 стандартное отклонение снижает участие женщин в рабочей силе на 0,39 стандартного отклонения, что отражает высокую чувствительность рабочего статуса женщин к устной традиции, в которой они существуют.
В качестве примера авторы сравнивают две страны – Филиппины и Афганистан. В филиппинском фольклоре степень мужской предвзятости одна из самых низких, в фольклоре Афганистана, напротив, ее распространенность почти в два раза выше, чем в среднем в мире. Это выражается в степени гендерного неравенства: в индексе Gender Inequality Index, который составляет Программа развития ООН, в 2023 г. Филиппины занимают 86-е место из 172 стран, включенных в ренкинг, а Афганистан – 168-е. В 2024 г. уровень участия женщин в рабочей силе на Филиппинах составил 50%, а в Афганистане – 5%.
Хотя сказки могут показаться чем-то вроде артефакта, устаревшего и неактуального, фольклорные образы и мотивы, передаваясь из поколения в поколение, до сих пор оказывают влияние на формирование убеждений, ценностей и экономического выбора, заключают Михалопулос и Сюэ.
Различия между странами в фольклорных мотивах проявляются в различиях их экономической производительности, показало еще одно исследование, авторы которого опирались на классификатор фольклорно-мифологических мотивов Березкина.
Проанализировав распространение по странам фольклорных сюжетов с противоположными социальными нормами (например, поощряющих честность или же, наоборот, хитрость), авторы обнаружили, что подобная культурная дистанция коррелирует с уровнями ВВП. Страны, чьи сюжеты схожи, имеют схожий уровень экономического развития, и наоборот – чем больше разница в фольклорных мотивах, тем больше разница в экономическом уровне. Корреляция сохраняется даже при учете географических и институциональных факторов. Это означает, что культурные нормы, унаследованные через фольклор, могут быть самостоятельным фактором экономического развития.
Культурная дистанция отражает различия в социальных нормах (например, уровень доверия, честности, кооперации) и ценностях (отношение к инновациям, риску, иерархии), которые, в свою очередь, влияют на экономические решения (инвестиции, трудовую этику, соблюдение правил), объясняют авторы.
Сказки и финансовые рынки
Изучение «сказочных» нарративов может помочь оценить риски нестабильности на финансовых рынках, пришла к выводу группа авторов нового исследования, также основанного на сведениях из каталога фольклорных мотивов Березкина.
Исследователи проанализировали выборку из более чем 44000 фирм, работающих в 48 странах, за период с 1990 по 2019 г. (всего более 460000 наблюдений «фирма – год»), рассчитав для каждой риск обвала акций на основе данных о доходности и ее колебаний относительно среднегодового значения. Они также вычислили для каждой страны на основе ее фольклора показатель «наказанные обманщики» – долю мотивов, где трикстеры расплачиваются за свой обман и мошенничество. Затем с помощью модели авторы изучили связь между индикатором наказания мошенников и риском обвала цен на акции.
Анализ показал, что в странах, в фольклоре которых обманщики наказываются чаще, ситуация на финансовом рынке более стабильная: увеличение на 1 стандартное отклонение показателя «наказанные обманщики» связано с уменьшением риска обвала цены акций примерно на 4–5%. Это объясняется более добросовестным поведением менеджеров фирм: они реже скрывают от инвесторов негативные новости и реже злоупотребляют финансовыми вложениями.
В экономической литературе предполагается, что одной из причин обвала цен на акции компании может стать неэтичное поведение ее менеджеров. Они могут долгое время с помощью непрозрачной отчетности утаивать плохие новости от инвесторов, пытаясь сохранить карьеру и зарплату. Когда скрывать негативные сведения уже не получается, их внезапное появление на рынке приводит к обвалу акций. Еще один механизм обвала – если менеджер совершает избыточные инвестиции или откладывает завершение невыгодных компании проектов, чтобы максимизировать собственную выгоду или избежать неблагоприятных последствий для репутации.
Расчеты авторов подтвердили эти предположения. А сопоставление индикаторов непрозрачности отчетности и избыточного инвестирования с индикатором «наказанные обманщики» показало отрицательную и статистически значимую связь. Другими словами, в стране, где фольклорные мотивы чаще описывают наказание за антисоциальное поведение, отчетность фирм более прозрачна, а избыточное финансирование – меньше. И, следовательно, риск падения акций ниже.
Народные сказки предоставляют членам общества модели персонажей для подражания, которые сталкиваются с моральными дилеммами и проблемами, делая выбор. Таким образом, сказки дают людям основу для понимания того, что правильно и неправильно, влияя на общественные отношения и поведение. Ценности, транслируемые фольклором, влияют и на финансовые рынки, формируя нормы поведения менеджеров. Поэтому инвесторам и регуляторам стоит учитывать культурный контекст при оценке рисков, а фирмы могут использовать нарративы для укрепления этики, полагают авторы.