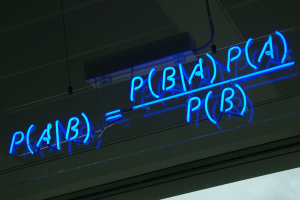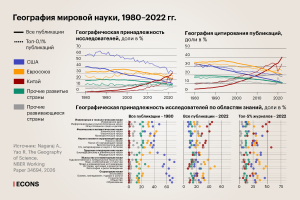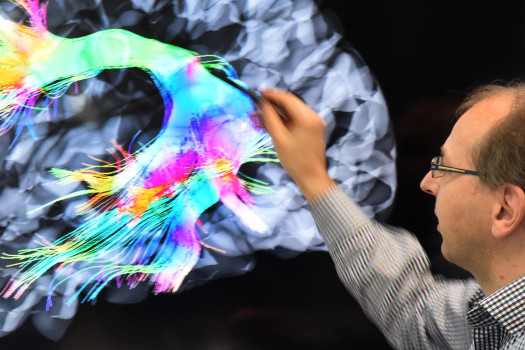«Взять в долг»: фрейминг и экономическое поведение
В немецком языке, как и во многих языках германской группы, слово, обозначающее «долг», также имеет значение «вина», что несет в себе сильный моральный подтекст. Этим часто объясняется повышенное неприятие немцами долговой нагрузки. «В Германии долг – это die Schuld. Это одновременно и финансовый долг, и вина. В долге есть своего рода чувство вины. Во Франции не так», – объяснял фискальный консерватизм Германии бывший министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Современные исследования подтверждают, что язык не просто описывает реальность, но и формирует то, как люди ее воспринимают и интерпретируют, в том числе при принятии экономических решений. Макроданные свидетельствуют, что в немецкоязычных муниципалитетах Швейцарии показатель невыплат домохозяйствами кредитов ниже, чем в соседних романоязычных; аналогично в США в округах с более высокой долей жителей, имеющих немецкое происхождение, уровень задолженности и просрочек ниже, а кредитный рейтинг домохозяйств выше.
Однако это может быть следствием влияния не только языка, но и культурных, исторических, институциональных и прочих особенностей. Чтобы доказать влияние языка на установки и поведение, необходимо, чтобы люди случайным образом «сталкивались» с разными формулировками, чего невозможно добиться с помощью простых наблюдений. Международной группе экономистов удалось найти доказательства существования причинно-следственных связей с помощью рандомизированных контролируемых экспериментов, а также текстового анализа. Их исследование подтверждает: моральные коннотации, заложенные в языке, не только формируют экономическое поведение домохозяйств, но и влияют на финансовые стратегии предприятий, а также используются в коммерческих и политических стратегиях.
Отношение к личному долгу
Исследователи провели четыре масштабных эксперимента в общей сложности в семи странах в течение в 2021–2025 гг. В четырех из них – Германия, Нидерланды, Швеция, немецкоязычная часть Швейцарии – слово «долг» имеет коннотацию вины. Участникам из этих стран, случайным образом распределенным в группы, представлявшие равные доли репрезентативной национальной выборки, задавали идентичные вопросы о финансовом долге, только в формулировке для одной группы использовалось стандартное слово «долг» с моральной «нагрузкой», а для другой – нейтральный синоним (например, «кредит»). Участники из остальных трех, англоязычных, стран (США, Австралия, Великобритания) служили плацебо-группами – для проверки, могут ли нейтральные термины тоже вызывать различные реакции в поведении.
В первом эксперименте участников спрашивали о готовности взять в долг для финансирования личного потребления, как мелких (смартфон), так и крупных (автомобиль) покупок.
- В странах, где язык связывает понятия долга и вины, в группах использование соответствующего слова снизило готовность брать в долг в среднем на 18% в сравнении с группами, где «долг» заменили нейтральным синонимом.
- В англоязычных странах, где все термины были нейтральными, разницы между группами не было.
Правда, выявился один нюанс: эффект избегания долга исчезал, когда вопрос задавался про ипотеку. Вероятно, это обусловлено тем, что ипотека в большей степени обусловлена институтами рынка жилья, чем отношением к долгу как таковому; к тому же в Швейцарии и Нидерландах проценты по ипотеке вычитаются из налогооблагаемой базы, что создает налоговый стимул для отсрочки погашения ипотеки.
В отдельном исследовании, проведенном в Германии, авторы расширили круг вопросов и вариантов термина «долг». Опять же, использование слова «долг» с коннотацией вины снизило общую готовность брать потребительские кредиты на 20% от среднего значения контрольной группы, но эффект снова оказался незначимым для ипотеки. Это может говорить о том, что моральный фрейминг особенно силен в областях, которые воспринимаются как финансово неосмотрительные, в то время как ипотека рассматривается как социально приемлемая форма долга, полагают авторы.
Отношение к госдолгу
Во втором эксперименте участников из Германии и немецкоязычной части Швейцарии спрашивали об их готовности поддержать рост госдолга. Всем задавали по три вопроса. Немцев спрашивали о готовности поддержать общий рост госдолга, рост госдолга для финансирования инфраструктуры и для социальных целей. А швейцарцев – тоже о готовности поддержать общий рост госдолга, а также о том, как бы они проголосовали на гипотетических референдумах: о вступлении Швейцарии в ЕС при условии, что страны – члены ЕС будут выпускать совместные облигации для финансирования общих расходов; и о реформе бюджетного закона, которая позволила бы правительству увеличивать госдолг.
- В Германии коннотация вины снижала поддержку госдолга в среднем на 11%, однако эффекта не было, если рост госдолга предполагался для финансирования конкретных целей (инфраструктура, социальные выплаты).
- В немецкоязычной Швейцарии коннотация вины снижала поддержку госдолга во всех трех сценариях, максимально – почти на 40% – в вопросе об общем росте госдолга.
Результат по Швейцарии показал, что «моральная семантическая нагрузка» влияет на отношение людей к долгу в политических решениях и даже тогда, когда долг не является основной темой этих решений, а служит лишь сопутствующим условием (как в вопросе о гипотетическом вступлении в ЕС). Это означает, что выбор терминов способен влиять на реальные политические предпочтения.
Отношение к инвестициям в долг
Третий эксперимент был проведен только в немецкоязычной части Швейцарии. Его участникам предлагалось поучаствовать в финансовых решениях.
Участникам сообщили, что они инвестировали 100 швейцарских франков c гарантированной доходностью 10% (то есть с прибылью в 10 швейцарских франков), и предложили взять в долг еще до 100 швейцарских франков по ставке 5% годовых, чтобы инвестировать дополнительно с той же безрисковой 10%-ной доходностью (то есть вдвое превышающей стоимость займа). Чтобы максимизировать свой общий доход, участнику было выгодно занять максимальные 100 франков. Отказ от долга или взятие меньшей суммы оставляли ему меньшую прибыль.
Как и в других экспериментах, участников случайным образом делили на две группы. Единственным различием было одно слово в описании возможности взять деньги: одной группе предлагали «взять в долг» (термин с коннотацией вины), другой – «взять в кредит» (нейтральный термин).
Даже при наличии четкой финансовой выгоды язык оказал существенное влияние на поведение. В группе, для которой использовали термин с коннотацией вины, в сравнении с контрольной группой (нейтральная лексика):
- вероятность взять взаймы снижалась на 16%;
- средняя сумма займа снижалась на 23%.
То есть термин с коннотацией вины не только уменьшал количество людей, готовых занимать, но и уменьшал сумму, которую они были готовы взять. Одного лишь слова оказалось достаточно, чтобы люди добровольно отказались от прибыли, отмечают авторы: моральный подтекст увеличивал «психологическую цену» займа.
Этот эксперимент стал одним из самых убедительных доказательств того, что связь между «долгом» и «виной» в языке – не просто лингвистическая особенность, а фактор, способный напрямую влиять на экономическое благосостояние людей.
Отношение к корпоративному долгу
Четвертый эксперимент прошел в Германии, и в нем были задействованы руководители немецких компаний, участвующие в ежемесячном панельном опросе ifo Business Survey. Выборка опроса репрезентативна для частного сектора Германии по отраслям и размерам компаний.
Как и в предыдущих экспериментах, участников случайным образом разделили на две группы, и каждой задали по два вопроса – о том, как изменится долговое финансирование компании в текущем году в сравнении с прошлым и насколько компании важно погасить долг как можно быстрее. При формулировках для одной группы использовали слово «долг», для другой – «кредит».
- Использование лексики с коннотацией вины оказало значительное и статистически сильное влияние на ответы менеджеров: ответы сместились в сторону сокращения долгового финансирования (на 4% относительно второй группы) и повышения приоритета быстрого погашения долга (на 9%).
Таким образом, даже на уровне принятия корпоративных решений, где предполагается высокая степень рациональности, лингвистическое обрамление долга как «вины» влияет на заявленные финансовые стратегии. Этот эксперимент показал, что эффект лингвистического фрейминга выходит за рамки личных финансов домохозяйств и пронизывает даже профессиональную среду корпоративных финансов.
Долг в финансовой рекламе
Авторы также проанализировали финансовую рекламу в Германии, Нидерландах, Швеции, Великобритании и США, сравнивая частоту и контекст использования термина «долг».
Оказалось, что «долг» используется в рекламе гораздо реже, чем «кредит». То же самое и в англоязычных странах: хотя там у слова «долг» (debt) нет коннотации вины, оно используется реже, чем «заем» (loan) или «кредит» (credit).
Самое интересное открытие – это полное разделение контекстов, в которых используются морально нагруженные и нейтральные формулировки в языках с семантической связью между долгом и виной.
- Термин «долг» используется в контексте избавления от бремени («процедура освобождения от долгов» и т.п.). Фрейминг заключается в том, что «долг» изображается как проблема, от которой нужно избавиться.
- Нейтральные термины («кредит», «заем») доминируют в проморекламе, призванной побудить клиента к действию: подать заявку на кредит, взять мгновенный кредит и т.п. Фрейминг заключается в том, что заем изображается как стандартная полезная финансовая услуга и возможность.
Таким образом, рекламные практики подтверждают и используют выявленный в эксперименте психологический эффект, целенаправленно применяя фреймирование в финансовом маркетинге для управления восприятием и поведением потребителей.
Речи Бундестага
Наконец, авторы также исследовали, используют ли политики морально окрашенную лексику при обсуждении государственного долга в парламенте Германии. Для этого они собрали набор данных, охватывающих выступления в Бундестаге за последние 35 лет и содержащих упоминание долга, выявив частоту использования «виновных» слов и нейтральных (кредиты, гособлигации).
- Оказалось, что язык четко разделяет политиков на сторонников и противников госдолга. Политики, выступающие против заимствований, систематически включают в свою риторику морально нагруженную лексику, используя в среднем на 50% больше слов с коннотацией вины, чем сторонники госдолга.
Исследователи сравнили речи одних и тех же депутатов, когда они выступали за и против долга. Оказалось, что в среднем один и тот же политик, выступая против долга, значительно чаще использовал слова с корнем schuld, чем когда он же выступал за повышение долга. Это доказывает, что использование языка – стратегический риторический выбор, а не просто черта речи политика.
За 35 лет поддержка госдолга в Бундестаге возросла – с 15% до 40% всех речей. Но по мере этого росла и языковая поляризация: противники долга все активнее использовали «виновную» лексику, а сторонники все чаще избегали ее, заменяя нейтральными синонимами.
Анализ речей политиков не охватывает март 2025 г., когда в Бундестаге произошло историческое голосование за отмену «долгового тормоза». «Долговой тормоз» (Schuldenbremse) – это бюджетное правило, ограничивавшее новые заимствования федерального правительства размером в 0,35% ВВП в год и закрепленное в Конституции Германии в 2009 г. «Тормоз» не позволял увеличивать госрасходы сверх меры. Но в начале 2025 г. Бундестаг проголосовал за ослабление «тормоза» ради увеличения расходов на оборону и инфраструктуру, которое стало крупнейшим фискальным расширением в послевоенной истории Германии.
Когда Германия в 2009 г. принимала бюджетные ограничения, термин «долговой тормоз» активно использовался политиками, отмечают авторы. И наоборот, в период дебатов накануне его ослабления сторонники повышения госзаймов сознательно избегали морально нагруженного термина. Они использовали технический и, более того, позитивный термин (Sondervermögen), который дословно переводится как «особое богатство» или «специальные активы». Как иронично замечают авторы, этот термин вводит в заблуждение, поскольку ослабление «тормоза» не подразумевало никакого богатства, а предполагало, скорее, целевые заимствования, которые не подпадают под действие бюджетных правил.
Результаты исследования имеют целый ряд практических последствий, перечисляют авторы.
- Во-первых, они предполагают, что межстрановые различия в уровнях задолженности могут быть отчасти обусловлены лингвистическим фреймингом. Это добавляет новое измерение к детерминантам фискального и финансового поведения.
- Во-вторых, результаты подчеркивают потенциал тщательного подбора лексики для влияния на решения о заимствованиях в ситуациях, когда неприятие долга может быть как полезным, снижая чрезмерную задолженность, так и вредным, ограничивая продуктивные инвестиции.
«Понимание и потенциальное использование этих лингвистических эффектов может помочь в разработке коммуникационных стратегий для политиков, регулирующих органов и финансовых учреждений, стремящихся направить заимствования к социально оптимальным уровням», – заключают исследователи.