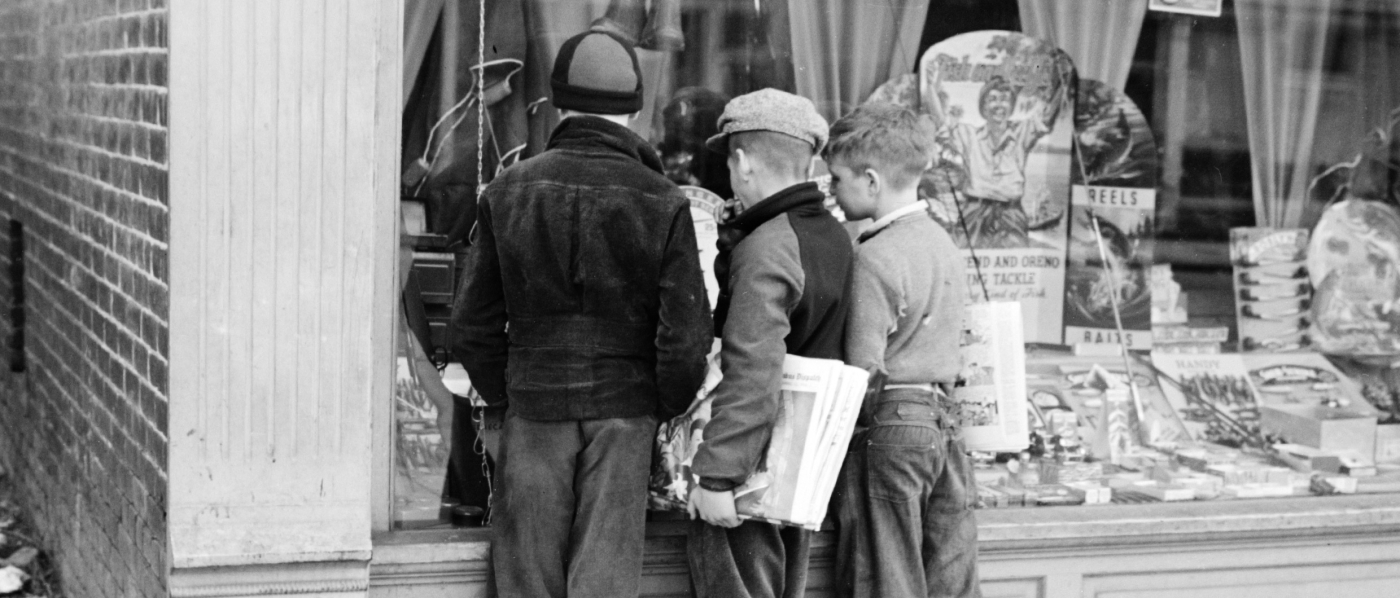Нарративы об инфляции: 100 лет истории и три главных вывода
Нарративы – это идеи, распространяемые в форме популярных историй, которые объясняют явления и события и за счет этого объяснения влияют на мировоззрение и решения людей. Психологи называют нарративы инструментом, который помогает разуму конструировать реальность. Нарративы помогают обрабатывать в том числе экономическую информацию, задавая интерпретационные рамки, через которые формируются ожидания относительно будущих экономических условий.
Слова «нарратив» и «история» часто используют в качестве синонимов, но отличие первого от второго в том, что нарратив – это не просто повествование, а объяснение, содержащее некую точку зрения или целую систему ценностей. В экономике нарративы предлагают интерпретацию экономических событий при помощи наглядных примеров, объяснял нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер, исследователь «нарративной экономики». Когда люди не знают, как поступить, в их памяти всплывают нарративы, мотивируя следовать описанным в них поведенческим стратегиям. Другой нобелевский лауреат по экономике, Джордж Акерлоф, и его соавтор Деннис Сноуэр из Кильского института мировой экономики называют нарративы последовательностью причинно-следственных связей, которые дают простые мыслительные модели и используются в качестве шаблона для интерпретации текущих событий.
Инфляция – один из самых чувствительных к нарративам макроэкономических индикаторов. Представления о ней формируют ожидания людей относительно будущего уровня инфляции. А инфляционные ожидания влияют на экономическое поведение, определяя, в частности, тратят ли потребители или сберегают, расширяют ли компании наем или сокращают сотрудников.
Нарративы об инфляции – а точнее, объяснения ее причин и последствий – могут влиять на инфляционные ожидания даже сильнее, чем уровень фактической инфляции, на которую, как считается, ориентируются потребители в своих инфляционных прогнозах. К такому выводу пришли исследователи из Чикагского, Стэнфордского и Северо-Западного университетов, проанализировав при помощи большой языковой модели нарративы об инфляции за 100 лет, с 1923 г., в американской прессе. Кроме того, оказалось, что в разных СМИ нарративы различаются, а одни и те же нарративы люди воспринимают по-разному – оба этих фактора приводят к разрыву в инфляционных ожиданиях домохозяйств, усложняя управление инфляцией.
Вселенная нарративов
Авторы проанализировали публикации более 3000 газет – как общенациональных, таких как New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, так и региональных и локальных изданий. На 100-летнем периоде, с 1923 по 2025 г., исследователи отобрали около 4,2 млн фраз, в которых встречалось слово «инфляция». К нарративам отнесли те фразы, в которых речь шла о причинах или о последствиях инфляции (таковых оказалось чуть менее половины из первоначальной выборки). Из этих фраз авторы выделили 7 основных нарративов о причинах инфляции и 10 ключевых нарративов, описывающих ее последствия, доминировавших в американском медиаполе на протяжении ста лет.
Виды нарративов, которыми СМИ объясняли рост цен:
1. Факторы со стороны спроса: нарративы связывают рост цен с чрезмерным совокупным спросом в экономике, часто из-за увеличения потребительских расходов, инвестиций в бизнес или госрасходов, которые опережают производственные мощности.
2. Факторы со стороны предложения: нарративы сосредоточены на ограничениях производственных мощностей, сбоях в цепочке поставок или на нехватке ресурсов, которые приводят к росту издержек независимо от условий спроса.
З. Инфляция зарплат: объяснения сосредоточены на спирали зарплат и цен – самоусиливающемся цикле, когда работники требуют повышения зарплат ради компенсации роста цен, рост зарплат приводит к дальнейшему повышению цен бизнесом, на что работники снова требуют повысить им зарплаты.
4. Монетарные факторы: нарративы подчеркивают политику центрального банка в качестве драйвера инфляции, особенно за счет чрезмерного роста денежной массы, низких процентных ставок, количественного смягчения.
5. Фискальные факторы: подчеркивается связь роста инфляции с дефицитом бюджета, вызванным экспансионистской политикой госрасходов и налогообложения.
6. Ожидания: эти нарративы фокусируются на том, как ожидания роста инфляции могут сами по себе вызывать рост инфляции, поскольку экономические субъекты принимают решения на основе своих инфляционных ожиданий, а не текущих условий.
7. Международная торговля и обменные курсы: в этих объяснениях причин инфляции фигурируют колебания валютных курсов, мировых цен на товары, международных потоков капитала, возникновение торговых дисбалансов.
Объясняя, как именно определялось, относится ли та или иная фраза к нарративам, исследователи приводят два примера. Предложение из газетной заметки «Год назад администрация предполагала, что инфляция составит 7,5% в 1979 г.» не вошло в финальную выборку, поскольку не относится к нарративам: оно говорит только о самом факте прежнего прогноза, но не о причинах или последствиях инфляции. Второй пример – фрагмент другой заметки: «Если такая фискальная политика материализуется, она, скорее всего, будет способствовать экономическому росту и стимулировать инфляцию и потенциально может вынудить ФРС быстрее повышать процентные ставки». Это предложение содержит сразу два нарратива: 1) фискальные факторы повышают инфляцию (нарратив о причине), и 2) рост инфляции ведет к повышению процентных ставок (последствие).
Список нарративов о последствиях инфляции оказался чуть длиннее:
1. Снижение покупательной способности денег: объяснения того, что из-за роста инфляции потребители могут купить меньше на ту же номинальную сумму.
2. Рост стоимости жизни: эти нарративы сосредоточены на том, как инфляция увеличивает повседневные расходы людей, особенно людей с фиксированным доходом, например пенсионеров, и людей с низкой зарплатой.
3. Рост неопределенности: нарративы о том, что инфляция, особенно нестабильная и непредсказуемая, создает экономическую неопределенность, которая влияет на планирование, инвестиции и решения о потреблении.
4. Повышение процентных ставок центральным банком: объяснения, что центробанки реагируют на инфляцию, повышая процентные ставки, и это влияет на стоимость заимствований, инвестиции и экономический рост.
5. Перераспределение доходов или благосостояния: эти нарративы объясняют, как инфляция перераспределяет богатство между различными экономическими группами – например, между заемщиками и кредиторами, между наемными работниками, у которых основной доход – зарплата, и держателями активов, получающими доход за счет роста цен на активы.
6. Влияние на сбережения: инфляция негативно влияет на сбережения и финансовые инвестиции, сокращая цену активов с фиксированной доходностью.
7. Влияние на глобальную торговлю: нарративы, обсуждающие, как внутренняя инфляция влияет на внешнюю конкурентоспособность, экспорт, торговый баланс.
8. Рост издержек бизнеса: как инфляция влияет на прибыль, инвестиционные решения, занятость и стратегии ценообразования.
9. Социальное и политическое влияние: нарративы, подчеркивающие более широкие последствия инфляции для общества, включая влияние на социальную стабильность, политические события и доверие к институтам.
10. Влияние инфляции на государственные финансы – финансирование госпрограмм, обслуживание госдолга, фискальную политику.
Среди нарративов о последствиях инфляции наиболее распространены нарративы об эрозии сбережений, будущем повышении процентных ставок и росте издержек.
Эволюция нарративов
Вековая «летопись» американских нарративов об инфляции, которую составили исследователи, говорит о том, что за последние 40 с небольшим лет нарративы претерпели заметное изменение. Если до 1980-х во всех американских СМИ доминировало фискальное объяснение инфляции, то с 1980-х акцент сместился на монетарные факторы и факторы предложения.
Это совпало с кардинальным изменением денежно-кредитной политики ФРС. После агрессивного повышения ставок Полом Волкером, укротителем разразившейся в 1970-е Великой инфляции, нарративы стали все чаще связывать инфляцию с уровнем процентных ставок. До 1970 г. газеты практически не писали о связи между ставками и уровнем потребительских цен. Этот сдвиг подчеркивает фундаментальное изменение не только в политике, но и в представлениях об инфляции, отмечают авторы.
Но нарративы об инфляции различаются не только во времени. Все последние 100 лет общенациональные газеты чаще, чем локальные и региональные, использовали нарративы о причинах инфляции и чаще связывали их с макроэкономическими факторами. В свою очередь, региональные и локальные газеты больше внимания уделяют не причинам, а прямым эффектам инфляции, подчеркивая ее негативные последствия для сбережений и покупательной способности, то есть освещая аспекты, которые непосредственно влияют на стоимость жизни местных подписчиков.
Исследователи также выявили географическое расхождение нарративов. Нарративы, объясняющие инфляцию монетарными факторами и факторами предложения, чаще транслируют СМИ относительно бедного юга страны, в то время как на севере, где расположены более богатые штаты США, газеты чаще, чем в других регионах, указывают в качестве причин инфляции фискальные факторы. «Южные» газеты также акцентируют больше внимания на роли в ускорении инфляции процентных ставок, фактора спроса и повышения зарплат, а среди эффектов инфляции чаще указывают рост стоимости жизни, усиление неопределенности и снижение покупательной способности. Это свидетельствует о различиях в региональных экономических проблемах, считают авторы.
На нарративы об инфляции влияет и экономическая структура. Городские газеты в качестве причин инфляции чаще подчеркивают фискальные и международные факторы, денежно-кредитную политику, международную торговлю и рост зарплат. Сельские нарративы не показывают предпочтений какой-либо из причин инфляции и в основном сосредоточены на описании ее последствий.
При этом нарративы о последствиях инфляции в городских и сельских газетах существенно различаются. Сельские газеты делают упор на росте процентных ставок и стоимости жизни, а городские – на эрозии сбережений, социальных последствиях и последствиях для международной торговли. Города в большей степени связаны с глобальными рынками и государственной политикой, от которых зависит их благосостояние, в то время как сельские районы ощущают прямое воздействие инфляции на цены и расходы, объясняют авторы.
«Политическая» инфляция
Нарративы об инфляции существенно различаются и в зависимости от политической платформы газеты. В американских регионах, традиционно голосующих за демократов, пресса чаще объясняет инфляцию внешними факторами, денежно-кредитной политикой, спросом и ограниченным предложением. А в объяснении последствий роста цен акцентирует внимание на потере сбережений, росте процентных ставок и неопределенности.
Газеты же, которые читают республиканцы, чаще, чем газеты для демократов, указывают в качестве причин ускорения инфляции фискальную политику и рост зарплат и предупреждают о снижении покупательной способности, перераспределении доходов и богатства, а также негативных социальных последствиях роста цен.
Эти различия согласуются с традиционными расхождениями двух партий во мнении по экономическим вопросам. Интересы республиканцев больше сфокусированы на фискальной политике и прямых издержках для потребителей, а демократов – на сбережениях и финансовых рынках, считают авторы.
«Заразные» нарративы
Существуют две главные конкурирующие гипотезы распространения экономических нарративов. Первая исходит из модели конкуренции СМИ (1, 2) и предсказывает поляризацию нарративов, поскольку в стремлении завоевать определенные группы подписчиков газеты дифференцируют свой контент. Этому объяснению противостоит гипотеза Роберта Шиллера об «эпидемическом» характере распространения нарративов (см. врез). Если эта гипотеза верна и нарративы распространяются подобно вирусам, тогда инфляционные нарративы газет должны быть, наоборот, схожи вне зависимости от убеждений их аудитории и их географической локации.
Чтобы проверить, какая из гипотез верна, авторы проанализировали освещение инфляции только локальными СМИ с ограниченными группами подписчиков, расположенными в далеких друг от друга регионах, экономическая ситуация в которых различается.
Оказалось, что нарративы, которые транслируют такие «разнородные» газеты, постепенно сближаются. В среднем местная газета увеличивает долю нарратива о связи между инфляцией и процентными ставками среди всех инфляционных нарративов на 3 п.п., если в локальных газетах других регионов эта доля растет на 1 п.п. Это говорит о том, что нарративы действительно «заразны».
С другой стороны, при росте доли определенного нарратива в местной прессе другие местные газеты-конкуренты сокращают обращение к такому нарративу, что подтверждает гипотезу конкуренции, – то есть абсолютной конвергенции нарративов не происходит. Но если на локальном уровне каждая газета стремится сохранить собственную позицию, отличную от позиции географически близких соперников, то общенациональные тренды в нарративах перенимают все газеты.
Это говорит о справедливости обеих гипотез о распространении нарративов. Хотя нарративы «заразны» и, появившись в прессе в одном регионе, вскоре появляются в прессе других регионов, у местных газет-конкурентов они различаются.
Нарративы и инфляционные ожидания
Чтобы понять, влияют ли нарративы на инфляционные ожидания, исследователи сопоставили нарративы об инфляции, которые превалировали на протяжении 100 лет в каждом регионе США, с уровнем инфляционных ожиданий и фактической инфляцией. Данные о краткосрочных и долгосрочных ожиданиях домохозяйств были взяты из потребительских опросов Мичиганского университета, в которых респондентов в том числе просят поделиться ожиданиями относительно будущего уровня цен через 1 год и 5–10 лет. Для данных об инфляции использовался не только общий индекс потребительских цен для США, но и индекс для юга, запада, северо-востока страны и региона Среднего Запада, что позволяет изучить потенциальные географические закономерности как в нарративах об инфляции, так и в фактических изменениях цен.
Оказалось, что рамки понимания инфляции, заданные нарративами, предсказывают краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания.
Рассчитав стандартную зависимость между прошлой инфляцией и инфляционными ожиданиями на год вперед, авторы получили коэффициент 0,22, то есть повышение инфляции на одно стандартное отклонение ведет к росту краткосрочных инфляционных ожиданий на 0,22 стандартного отклонения. Влияние на долгосрочные ожидания, которые лучше заякорены, гораздо меньше – всего на 0,06 стандартного отклонения.
На первый взгляд, рамки, задаваемые нарративами, имеют меньшую предсказательную силу в отношении инфляционных ожиданий. Например, нарратив, объясняющий ускорение инфляции ростом инфляционных ожиданий, влияет на краткосрочные (1-летние) инфляционные ожидания в 5 раз слабее, чем уровень фактической инфляции, а нарратив о последствиях инфляции для международной торговли – в 6 раз слабее.
Из этого можно было бы сделать вывод о том, что нарративы служат пусть существенным, но дополнительным фактором, формирующим представления людей о будущей инфляции. Но у нарративов обнаружилось свойство, которое отводит им гораздо более важную роль в формировании инфляционных ожиданий, чем кажется на первый взгляд. Они могут служить фактором разрыва инфляционных ожиданий – когда, например, одни люди ожидают роста цен, а другие – замедления.
Драйвер разногласий
Нарративы увеличивают расхождение в инфляционных ожиданиях, которое, в свою очередь, затрудняет трансмиссию монетарной политики в экономику. Если на сами инфляционные ожидания нарративы оказывают более слабый эффект, чем фактическая инфляция, то во влиянии на расхождение в инфляционных ожиданиях эффект нарративов намного сильнее, чем эффект реальной инфляции.
Например, нарративы, описывающие социальные и политические последствия ускорения инфляции, влияют на инфляционные ожидания потребителей на год вперед в 1,8 раза сильнее, чем знание о фактическом уровне инфляции, а на долгосрочные – в 2,2 раза сильнее. Эффект нарративов, подчеркивающих, что инфляция повышает стоимость жизни, примерно в 1,1 и 1,7 раза больше, чем эффект реального уровня инфляции.
Это объясняется тем, что люди по-разному истолковывают освещение прессой причин и последствий инфляции. Даже одинаковые нарративы вызывают разную реакцию людей в зависимости от их принадлежности к той или иной социально-демографической группе.
Предупреждения о том, что инфляция ведет к ухудшению материального положения, сильнее всего повышает инфляционные ожидания наименее обеспеченных людей. Рост доли таких нарративов на одно стандартное отклонение в общей массе других нарративов об инфляции приводит к росту инфляционных ожиданий на ближайший год у представителей нижнего доходного квартиля (25% населения с самыми низкими доходами) на 0,13 стандартного отклонения. У представителей 25% населения с самыми высокими доходами такой нарратив повышает инфляционные ожидания всего на 0,03 стандартного отклонения. При этом, в отличие от людей с высокими доходами, люди с низкими доходами не реагируют на нарративы о росте спроса в экономике. Группа с высокими доходами также сильнее, чем группа с низкими, увеличивает инфляционные ожидания под влиянием нарративов о перераспределении доходов и влиянии инфляции на международную торговлю.
Реакция на нарративы также существенно отличается в зависимости от уровня образования. Например, в ответ на нарратив о росте экономической неопределенности из-за ускорения инфляции и на объяснение роста инфляции ограниченным предложением люди без высшего образования вдвое сильнее, чем обладатели университетских дипломов, повышают краткосрочные инфляционные ожидания. А на нарратив о спросе люди без высшего образования обращают мало внимания, в отличие от людей с высшим образованием, реагирующих на этот нарратив почти впятеро сильнее.
В среднем у людей с высшим образованием краткосрочные инфляционные ожидания ниже, чем у людей со средним образованием, на 0,76 п.п., а долгосрочные – на 0,62 п.п. Появление нарративов, на которые реакция у этих групп отличается, усиливает расхождение. Например, увеличение доли нарративов о социальных последствиях инфляции на одно стандартное отклонение расширяет расхождение в краткосрочных инфляционных ожиданиях между потребителями с высшим образованием и без него на 0,169 п.п. и на 0,123 п.п. в долгосрочных.
В целом люди без высшего образования чаще доверяют нарративам о «катастрофической» инфляции, тогда как образованные группы скептичнее. Одной из причин этого может быть то, что люди с высшим образованием обращаются, помимо газет, к другим источникам информации или просто меньше полагаются на прессу, считают авторы. Другая причина в том, что, в отличие от людей с высшим образованием, люди, его не получившие, повышают инфляционные ожидания в ответ на рост в прессе количества любых статей об инфляции, независимо от их содержания. Кроме того, при формировании долгосрочных инфляционных ожиданий люди, не окончившие вузов, гораздо сильнее привязаны к фактической инфляции, чем обладатели высшего образования, что может говорить об умении последних отличать временные инфляционные потрясения от постоянных, считают исследователи.
При этом ни сам по себе объем новостей об инфляции, ни конкретные интерпретационные рамки, которые предлагают публикуемые газетами нарративы, не в состоянии предсказать фактическую инфляцию.
С одной стороны, это подчеркивает потенциальное несоответствие между нарративами и фундаментальными экономическими факторами. С другой, нарративы могут способствовать разрыву в инфляционных ожиданиях, влияя на потребление, сбережения и решения об инвестициях.
Таким образом, изучение столетней истории нарративов об инфляции позволило авторам сделать три основных вывода:
- Объяснения причин и последствий инфляции, содержащиеся в нарративах, меняются со временем.
- Распространение нарративов в СМИ имеет двойственную природу. С одной стороны, газеты дистанцируются от ближайших конкурентов, стремясь объяснить инфляцию «по-своему», не так, как конкуренты. С другой стороны, газеты заимствуют эти объяснения у изданий из географически удаленных от них регионов, а также общенациональной прессы.
- Нарративы формируют разрыв в инфляционных ожиданиях, поскольку по-разному интерпретируются людьми в зависимости от социально-экономического статуса, уровня образования, региона проживания и типа населенного пункта (город, село).
Эволюция инфляционных нарративов на протяжении столетия американской экономической истории показывает, что медиафрейминг – «эффект формулировки» – оказывает значительное влияние на экономические убеждения. Фреймы нарративов в значительной степени влияют на формирование неоднородности инфляционных ожиданий в разных социально-демографических группах. Понимание, как информация, касающаяся инфляции, может быть интерпретирована различными каналами СМИ и воспринята различными группами населения, может помочь центробанкам усовершенствовать свою коммуникационную политику, заключают авторы.